

|
Прикованный Прометей
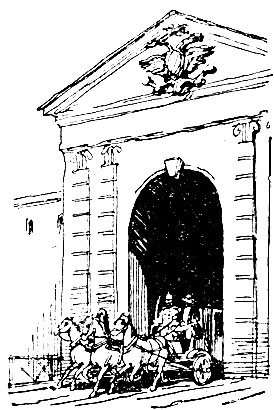
Прикованный Прометей
Палачи Чернышевского — следственная комиссия и Третье отделение, — заручившись «соизволением» Царя, продолжали фабриковать с непревзойденным цинизмом его «дело».
Оно зиждилось на согласованных с тайной полицией провокационных письмах Всеволода Костомарова к вымышленным лицам. По замыслу режиссеров процесса, эти письма предателя должны были изобличить Чернышевского. В дело были пущены, кроме того, поддельные письма Чернышевского, состряпанные Всеволодом Костомаровым. Ложные показания последнего комиссия надумала подтвердить свидетельствами подкупленного московского мещанина Яковлева. Вызванный в Петербург для дачи показаний по этому делу, Яковлев, однако, неожиданно скомпрометировал планы начальства буйным поведением и невольным саморазоблачением в пьяном виде. Но и это не смутило жандармов.
Всячески запутывая дело, следственная комиссия хотела взять узника измором, но Чернышевский был непреклонен. Во время одной из очных ставок с Всеволодом Костомаровым он решительно заявил своим судьям:
«Сколько бы меня ни держали, я поседею, умру, но прежнего своего показания не изменю».
После двухгодичного предварительного заключения в крепости Чернышевский был приговорен постановлением Сената к четырнадцати годам каторжных работ и затем к по селению в Сибири навсегда.
В заключительной части приговора говорилось: «Чернышевский, будучи литератором и одним из главных сотрудников журнала «Современник», своею литературною деятельностью имел большое влияние на молодых людей, в коих, со всею злою волею, посредством сочинений своих развивал материалистические в крайних пределах и социалистические идеи, которыми проникнуты сочинения его, и, указывая в ниспровержении законного правительства и существующего порядка средства к осуществлению вышеупомянутых идей, был особенно вредным агитатором, а посему Сенат признает справедливым подвергнуть его строжайшему из наказаний... Правительствующий сенат полагает: отставного титулярного советника Николая Чернышевского, 35 лет, за злоумышление к ниспровержению существующего порядка, за принятие мер к возмущению и за сочинение возмути тельного воззвания к барским крестьянам и передачу оно го для напечатания в видах распространения — лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на четырнадцать лет и затем поселить в Сибири на всегда...»
После утверждения Государственным советом приговор Сената был представлен царю, наложившему резолюцию: «Быть по сему, но с тем, чтобы срок каторжной работы был сокращен наполовину».
Перед отправлением на каторгу 19(31) мая 1864 года на Мытнинской площади был совершен обряд гражданской казни над Чернышевским. На площади, где был сооружен эшафот, войска оцепили помост, сдерживая толпу. Здесь собралось немало молодежи, желавшей проститься с Чернышевским.
Много времени прошло в томительном ожидании, пока не раздалась вдруг команда: «Смирно!» — и вслед за тем к эшафоту подъехала карета, окруженная верховыми жандармами с саблями наголо. Толпа хлынула к карете, но тотчас была оттеснена жандармами, которые разгоняли народ, выкрикивая: «Назад! назад!»
Чернышевский под конвоем прошел к эшафоту. «На караул!» — скомандовал полицейский, вошедший вместе с ним на эшафот.
Палач сорвал с Чернышевского фуражку, и началось чтение приговора.
Не вслушиваясь в то, что читал чиновник, Чернышевский обводил глазами толпу, ища в ней кого-то. И вот он кивнул в правую сторону три раза.
Когда кончилось чтение, палачи заставили Чернышевского опуститься на колени и сломали над его головой саблю. Спокойно и бесстрастно, сложив на груди руки, дожи дался он конца этой процедуры. В толпе было мертвое молчание.
Как только кончилась церемония казни и Чернышевского повели к карете, толпа, прорвав линию городовых, ринулась за ним.
В эту минуту одна из девушек бросила Чернышевскому букет цветов — она была тотчас же схвачена жандармами. Затем молодой офицер крикнул:
— Прощай, Чернышевский!
Толпа снова ринулась за каретой, но в это время раздалась команда: «Рысью!» — и карета скрылась.

Толпа возмущенного народа
Актом гражданской казни правительство рассчитывало унизить великого провозвестника революции, борца за освобождение народа. Но оно ошиблось в своих расчетах. Общее негодование всех честных передовых людей по поводу расправы над Чернышевским ярко выразилось в статье Герцена, напечатанной в «Колоколе» вскоре после свершения гражданской казни.
«Чернышевский был вами выставлен к столбу на четверть часа, а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему? Проклятье вам, проклятье и, если возможно, — месть!..»
В одном из последующих номеров «Колокола» Герцен снова напоминал читателям о церемонии казни на Мытнинской площади и подчеркивал, что процесс Чернышевского будет иметь глубокое историческое значение:

Казнь
«...подымается и растет на свет новая Россия, крепко подкованная на трудный путь, закаленная в нужде, горе и унижении, тесно связанная жизнью — с народом, образованием — с наукой... Предшественником ее был плебей Ломоносов, могучий объемом и всесторонностью мысли, но явившийся слишком рано. Среда, затер тая между народом и аристократией, около века после него билась, вырабатывалась в черном теле. Она становится во весь рост толь ко в Белинском и идет на наше русское крещенье землею, на каторгу в лице петрашевцев, Михайлова, Обручева, Мартьянова и проч. Ее расстреливали в Модлине1 и разбрасывают по России в лице бедных студентов, ее, наконец, эту новую Россию, Россия подлая показывала народу, выставляя Чернышевского на позор...
1 (Имеется в виду казнь офицеров Арнгольда, Сливицкого и Ростковского, обвиненных в подстрекательстве солдат к бунту. По при говору военно-полевого суда они были расстреляны в июне 1862 года в Новогеоргиевской крепости (Модлин).)
Удар за ударом бьет эту среду, она побита наголову, но дело не побито, оно меньше побито, чем 14 декабря, — плуг пошел дальше и глубже. Зерна царского посева не пропадут на каторге, они прорастают толстые тюремные стены и снегом покрытые рудники».
* * *
Естественный рост Чернышевского как писателя, философа и ученого был сломлен, когда ему исполнилось тридцать четыре года. Вторая половина его жизни — это каторга, поселение в Вилюйске, возвращение в глухую провинцию под негласный надзор полиции.
Но и в этих условиях он не дрогнул, не выказал ни тени малодушия. Величие и стойкость души Чернышевского сказались в том, что он не проронил ни одной жалобы за долгие годы томительного существования в Сибири. С самого начала этой драмы — с момента водворения в Петропавлов скую крепость — до последних дней острожной жизни в Вилюйске он в самых радужных тонах изображал в письмах к родным свое положение.
Уверенный в своей юридической невиновности, он внеш не не проявлял сначала даже интереса к ходу своего дела.
«Это все вздор, не стоит и думать», — говорил он.
И позднее, очутившись в Сибири, он неизменно подчеркивал свое презрение к решению царского суда, основанному на подлогах и лжесвидетельствах. На вопросы о приговоре он постоянно отвечал:
«Читали что-то, а что именно, решительно не помню».
Когда один из конвоиров, сопровождавших Чернышевского в Сибирь, поинтересовался, каким «рукомеслом» он занимался в России, Чернышевский, улыбаясь, ответил:
«По писарской части маялся... По писарской, по писарской!»
* * *
После церемонии гражданской-казни Чернышевского снова привезли в Петропавловскую крепость. В этот же день сюда приехали проститься с ним жена со старшим сыном, братья и сестры Пыпины, Терсинский, Боков, Антонович, Елисеев.
Николай Гаврилович держался с поразительным спокойствием и выдержкой.
«Мы проводили Николю без слез, — писала Екатерина Николаевна Пыпина родным в Саратов. — Поплакать нам не случилось потому, что он сам был довольно весел, потом нужно было слишком много сказать друг другу...»
— Как сначала я имел право говорить, так и теперь его имею, что против меня у них не было никаких основании вести так дело, — заметил родным Чернышевский.
Он отлично знал, что царское правительство не располагало уличающими его материалами, что все было грубо подтасовано и основано на фальшивках.
Еще десять лет назад, в беседах со своей будущей женой, Чернышевский, предчувствуя ожидавшую его участь, говорил ей:
«Меня каждый день могут взять... У меня ничего не найдут, но подозрения против меня будут весьма сильные. Что же я буду делать? Сначала я буду молчать и молчать. Но наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надо ест, и я выскажу свои мнения прямо и резко. И тогда я едва ли уже выйду из крепости...»
Теперь в Алексеевском равелине, в одно из последних свиданий с двоюродной сестрой, он сказал почти то же самое:
- Это еще хорошо для меня, такое событие, как вся эта история. Теперь, во всяком случае, я имею полное сознание несправедливости и пристрастия господ, решавших дело. Не будь этого, очень вероятно, что я не выдержал бы, и тогда эти господа были бы в своем праве...
Чернышевского не оставляла надежда, что ему удастся все же печатать свои произведения и тем самым поддерживать материально семью. Прощаясь с Антоновичем, он сказал, что и на каторге непременно будет писать много и по старается присылать свои статьи для помещения в «Современнике» и что если их нельзя будет печатать с его именем, то нужно попробовать подписывать псевдонимом.
Перед отправлением в Сибирь он оставил список своих трудов и тех книг, над которыми работал в крепости, прося передать их Пыпину. Однако бумаги его так и не вышли из недр Третьего отделения и были обнаружены в архиве Петропавловской крепости лишь после Великой Октябрьской Социалистической революции.
* * *
Трудный и долгий путь предстоял Чернышевскому от Петербурга до Нерчинском завода, через Вятку, Пермь, Екатеринбург, Тюмень и Тобольск. Родные его озаботились о том, чтобы облегчить ему это длительное путешествие. Экипаж и необходимые вещи были ими доставлены к воротам в назначенный день и час.
Но предварительное разрешение, данное на это администрацией, оказалось обманным: вечером 20 мая Чернышевский был отправлен в почтовой телеге, под охраной двух жандармов в «Тобольский приказ о ссыльных».
Благонадежный конвой, непродолжительность остановок, быстрое следование в пути — вот о чем усердно заботилось начальство, опасавшееся попыток освобождения Чернышевского его единомышленниками.
5 июня 1864 года Чернышевский прибыл в Тобольск, где его определили в местную тюрьму, так как предстояла не дельная остановка. Здесь временно размещены были польские повстанцы.
В Тобольске познакомился с ним политический ссыльный Стахевич, оставивший воспоминания и об этой встрече, и о совместном их пребывании впоследствии в Александровском заводе.
В конторе, куда привели Чернышевского, его увидели ссыльные поляки, зашедшие туда по делу. Они поспешили к Стахевичу и сказали ему:
— Идите в контору, земляка вашего привели, русского.
Войдя туда и взглянув на человека, находившегося в конторе, Стахевич догадался, что это Чернышевский: еще несколько лет назад он видел у одного из своих товарищей по университету фотографическую карточку властителя умов молодого поколения. На карточке той Чернышевский был без усов и без бороды, с густой шевелюрой.
Теперь перед Стахевичем стоял похожий на этот портрет Чернышевский, только волосы его были коротко острижены, и это несколько изменило его облик.
«А ведь я уже и раньше где-то видел его», — подумал Стахевич, вглядываясь в черты лица Чернышевского. И тут, как в сновидении, мелькнула перед ним сцена, происшедшая в августе минувшего года.
Стахевич, находившийся тогда в заключении в Петропавловской крепости, был однажды вытребован в Сенат для чтения вопросов, заданных ему следственной комиссией, и его ответов на эти вопросы. Сопровождавший Стахевича полицейский чиновник привел его в большую комнату, расположенную рядом с присутственной, и, усадив около длинного стола, куда-то удалился.
Ожидая вызова, Стахевич обратил внимание, что на противоположном краю стола какой-то человек в очках перелистывает толстый канцелярский фолиант, часто наклоняется к этому фолианту очень низко, так что борода его почти касается листов, и быстро набрасывает заметки на бумаге.
Стахевича поразило тогда сходство этого человека с изображением Чернышевского на фотографии, которую он видел у своего приятеля.
«В самом деле, должно быть, он, — подумал Стахевич. — А фолиант этот, очевидно, канцелярское дело о его провинностях; дело толстущее, много, стало быть, обвинений против него; помоги ему бог выпутаться из этой передряги».
Но теперь, в момент встречи в Тобольске, Стахевич не решился спросить у Николая Гавриловича, он ли это сидел тогда в присутственной комнате Сената за столом. Лишь три года спустя, уже находясь в Александровском заводе и дружески сблизившись с Чернышевским, он в разговоре с ним полюбопытствовал однажды; привозили ли его из крепости в Сенат в августе 1863 года и делал ли он тогда выписки из протоколов?
«Да, привозили, делал», — кратко ответил ему Николай Гаврилович.
* * *
С разрешения тюремного смотрителя Стахевич повел Чернышевского из конторы с собой, предполагая, что Николай Гаврилович будет находиться вместе с поляками в большой общей камере политического отделения тобольской тюрьмы. Но очень скоро туда явился смотритель и заявил, что по распоряжению начальства он должен поместить Чернышевского отдельно от всех, в камере «секретного коридора». Впрочем, смотритель разрешил Стахевичу заходить иногда к Чернышевскому. В одно из таких посещений Николай Гаврилович сказал ему:
— Мне сообщили, что я пробуду в Тобольске недолго, всего несколько дней. Распаковывать чемодан на такое короткое время и потом опять запаковывать — не хочется; скажите, какие книги у вас есть с собой, я что-нибудь выберу на эти дни, чтобы не так скучно было сидеть тут.
Из названных Стахевичем книг он попросил физиологию Функе на немецком языке. Через несколько дней, возвращая книгу, Чернышевский заметил:
— С большим удовольствием нашел в этой книге почетное упоминание о научных работах наших русских людей; Сеченова, Якубовича, Овсянникова...
Запомнился Стахевичу рассказ Николая Гавриловича о переправе с конвоиром через какую-то речку на большом пароме. Когда конвоиры отошли к краям парома, Николай Гаврилович завел разговор с ямщиком в таком роде:
— И что тебе за надобность ямщиком быть? Столь ко у тебя денег, а за прогонами гонишься!
— Что ты, батюшка, Христос с тобой! Какие у нас деньги? Никаких нет.
— Рассказывай. Вишь, у тебя на армяке заплат сколько, а под каждой заплатой деньги небось зашиты.
Тут ямщик понял, что Николай Гаврилович шутит, и сказал:
— Кто за народ стоит, все в Сибирь идут, мы это давно знаем...
Некоторые из поляков, желая сохранить что-нибудь на память о замечательном русском революционере, передали Стахевичу свои записные книжки и просили через него Чернышевского набросать хоть два три слова. Надписи Николая Гавриловича были лаконичны: «Н. Чернышевский, литератор», год, месяц, число.

© Злыгостев Алексей Сергеевич, 2013-2018
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://n-g-chernyshevsky.ru/ "N-G-Chernyshevsky.ru: Николай Гаврилович Чернышевский"
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://n-g-chernyshevsky.ru/ "N-G-Chernyshevsky.ru: Николай Гаврилович Чернышевский"