

|
«Прекрасное есть жизнь»

«Прекрасное есть жизнь»
Атмосфера общественного подъема не могла не отразиться благоприятно и на судьбе диссертации Чернышевского, за щиту которой Никитенко решил теперь долее не задерживать.
4 апреля 1855 года Чернышевский писал родным в Саратов:
«Я надеюсь скоро напечатать свою несчастную диссертацию, которая столько времени лежала и покрывалась пылью. Эта жалкая история так долго тянулась, что мне и смешно и досадно. И тогда я думал, и теперь вижу, что все было только формальностью... Дело все-таки тянулось невыносимо долго. Но теперь оно уже дотянулось до окончания».
Утверждение диссертации советом университета последовало 11 апреля, и Чернышевский тотчас же сдал ее в типографию.
Наступила дружная весна — быстро стаял на улицах снег, и петербуржцы, сбросив с облегчением шубы, щеголяли в весеннем платье. Теплая погода, установившаяся необычно рано, позволила Чернышевским уже в конце апреля переехать на дачу, расположенную в Беклешевском саду под Петербургом.
Николаю Гавриловичу в это время часто приходилось бывать в городе по делам, связанным с предстоящей защитой диссертации, которая была назначена на 10 мая.
За неделю до диспута диссертация, вышедшая отдельной книгой, попалась на глаза директору Педагогического института Давыдову, которой отличался крайней реакционностью. Ознакомившись с нею, он поспешил сообщить министру просвещения Норову, что книга Чернышевского полна вольнодумства.
Просмотрев ее, министр тоже пришел в негодование и обратился с резкими упреками к декану университета, про пустившему «вредную» диссертацию. Однако отменять ее защиту было уже поздно.
10 мая ровно в час пополудни под председательством ректора университета Плетнева начался диспут. Официальными оппонентами были профессора Никитенко и Сухомлинов. Среди слушателей присутствовали близкие, друзья и знакомые Чернышевского: Ольга Сократовна, Пыпин, Введенский, Панаев, Сераковский, Шелиунов, земляки Раев, Терсинский и другие.
Описание этого знаменательного дня сохранилось в воспоминаниях Шелгунова.
«Задолго до публичной защиты, — пишет он, — о ней было уже известно в кружках, более близких к автору... Небольшая аудитория, отведенная для диспута, была битком набита слушателями. Тут были и студенты, но, кажется, было больше посторонних, офицеров и статской молодежи. Тесно было очень, так что слушатели стояли на ( окнах. Я тоже был в числе этих, а рядом со мной стоял Сераковский, офицер Генерального штаба, впоследствии принявший участие в польском восстании и повешенный Муравьевым...
Чернышевский защищал диссертацию со своей обычной скромностью, но с твердостью непоколебимого убеждения».
Вся процедура защиты заняла не более полутора часов. После диспута Плетнев обратился к Чернышевскому с такими словами:
— Кажется, я на лекциях читал вам совсем не это!
«И действительно, — добавляет Шелгунов, - Плетнев читал не то, а то, что он читал, было бы не в состоянии привести публику в тот восторг, в который ее привела диссертация. В ней было все ново и все заманчиво: и новые мысли, и аргументация, и простота, и ясность изложения. Но так на диссертацию смотрела только аудитория. Плетнев ограничился своим замечанием, обычного поздравления не последовало, и диссертация была положена под сукно».
Однако можно было положить под сукно «Дело о магистерском испытании» Н. Г. Чернышевского, но уже нельзя было замалчивать великие идеи, провозглашенные в его диссертации.

«Дело о магистерском испытании»
Смелую и сложную задачу взял на себя Чернышевский: в сущности, он должен был отстоять, развить и углубить революционно-демократические взгляды на искусство, про возглашенные еще Белинским и подвергавшиеся теперь нападениям со стороны проповедников снова входившей в моду теории «чистого искусства».
После смерти великого критика либерально-дворянские и реакционные литераторы пытались пересмотреть его эстетические принципы с тем, чтобы объявить «неосновательными» и «устаревшими» его мысли об общественном служении искусства. Они стремились всячески ослабить влияние освободительных идей критика-трибуна.
Однако их полемика с Белинским носила скрытый характер. Имя его избегали упоминать — оно было цензурно запретным, после того как властям стало известно по процессу петрашевцев его «Письмо к Гоголю», проникнутое непримиримой ненавистью к царизму и крепостникам.
Казалось бы, перед Чернышевским стояла неразрешимая задача — выступить с университетской кафедры в за щиту наследия Белинского, не упоминая ни слова ни о нем самом, ни о его противниках.
Он мог сделать это только в общей форме, показав несостоятельность идеалистических представлений об искусстве и противопоставив им научно обоснованную революционно-материалистическую эстетику, которая опиралась на традиции передовой философской мысли Запада и Рос сии, главным образом на традиции Белинского.
Истоки пресловутой теории «чистого искусства» крылись в эстетике немецких философов-идеалистов. И вот Чернышевский шаг за шагом прослеживает в своей диссертации основные положения этой эстетики, подвергая их глубокой и неопровержимой критике. В противовес ей он выдвигает новые взгляды на искусство, вытекающие из материалистического мировоззрения и одухотворенные революционным пафосом.
Главной темой его трактата, как это видно из самого названия, был вопрос об отношении искусства и литературы к жизни, к действительности. Идеалистическая эстетика всегда рассматривала искусство как нечто самодовлеющее, замкнутое в своей особой сфере. Цель искусства — само искусство, утверждали философы-идеалисты. Других целей у него нет и не может быть. Поэт и художник служат незыблемой и вечной идее красоты, поэтому они должны отстраняться от «низкой» действительности — от современной жизни с ее борьбой и противоречиями. Они призваны уводить нас от нее в мир мечты, бесстрастного созерцания, слияния с природой, уводить в мир безмятежного наслаждения искусством и красотой.
Самым важным в созданиях искусства философы-идеалисты считали совершенство формы, изящество внешней отделки.
Именно такой подход к искусству и литературе был наиболее близок реакционным критикам, желавшим отвлечь писателей и художников от их первостепенной обязанности служить благу общества.
Чернышевскому была ясна истинная подоплека подобных «эстетических» воззрений.
«Последователи теории чистого искусства, — писал он, — выдаваемого нам за нечто долженствующее быть чуждым житейских дел, обманываются или притворяются: слова «искусство должно быть независимо от жизни» всегда служили только прикрытием для борьбы против не нравившихся этим людям направлений литературы с целью сделать ее служительницей другого направления, которое более приходилось этим людям по вкусу».
Подходя к вопросу о природе искусства и его назначении с материалистической точки зрения, Чернышевский указывает на неразрывную связь искусства с действительностью. «Прекрасное есть жизнь», — говорит он. Красота — это свойство действительности, а не какое-то абстрактное воплощение божественной идеи1. Стремления, не связанные с действительной жизнью, бессильны и бесплодны. В произведениях искусства нет ничего, что не было бы дано самой действительностью.
1 (Ср. у Белинского в статье «Стихотворения Лермонтова»: «Много прекрасного в живой действительности или, лучше сказать, все прекрасное заключается только в живой действительности».)
Чем глубже и ярче отражает реальную жизнь то или иное произведение искусства, тем сильнее его воздействие на сознание людей.
Но Чернышевский не ограничивается определением «прекрасное есть жизнь». Он подчеркивает еще и преобразующую силу искусства, его активную роль и огромное воспитательное значение. Он добавляет: «прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям».
По цензурным условиям трудно было яснее высказать мысль о том, что главной целью передового искусства должна быть борьба за лучшие идеалы народа и что по длинный Художник в своих созданиях не только воспроизводит действительность, но и учит людей правильно пони мать и оценивать те или иные общественные явления.
Чернышевский называет искусство и литературу «учебником жизни». Во всяком большом художественном произведении, будь то картина, роман, скульптура или поэма, он считает необходимым наличие того или иного ответа на запросы современности, ибо истинный художник в основание своих произведений всегда кладет идеи современные.
Писатель должен быть в гуще жизни, его не могут не волновать вопросы, порождаемые действительностью, и тогда в его произведениях выразится стремление дать оценку, свой «живой приговор о явлениях, интересующих его (и его современников, потому что мыслящий человек не может мыслить над ничтожными вопросами, никому, кроме него, не интересными)».
Понятен восторг молодой аудитории, слушавшей защиту Чернышевским тезисов «Эстетических отношений искус ства к действительности». Ведь после «Писем об изучении природы» Герцена и замечательных статей Белинского по эстетике диссертация эта открывала новую страницу в развитии передовой русской общественной мысли. И в 50-е годы, несмотря на цензурные тиски, продолжалось могучее движение вперед в борьбе с проповедниками реакции, идеализма, застоя, крепостничества.
В 1855 году стали выходить новые издания сочинении двух великих русских писателей — Пушкина и Гоголя. Это начинание было огромным событием в тогдашней культурной жизни России. Оно-то и могло служить наглядным подтверждением уже приведенных нами раньше слов Герцена о том, что литературные вопросы, за невозможностью политических, в царской России становились зачастую вопросами жизни.
Обсуждение в печати характера этих изданий перешло постепенно в теоретический спор о двух направлениях русской литературы: пушкинском и гоголевском.
А под покровом этого теоретического спора был, по сути дела, поставлен снова вопрос о степени участия и особенной роли литературы в общественно-политической жизни страны.
Еще в 1842 году Белинский в своей рецензии на брошюру К. Аксакова о «Мертвых душах» заметил:
«...мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине: ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно, более поэт в духе времени; он также менее теряется в разнообразии создаваемых им объектов и более дает чувствовать присутствие своего субъективного духа, который должен быть солнцем, освещающим создания поэта нашего времени».
Истолкование творчества Гоголя и писателей, следовавших по пути автора «Мертвых душ», позволило Белинскому создать учение о критическом реализме и возглавить движение передовой русской литературы 40-х годов, давшей России повести Герцена, стихотворения Некрасова, «Записки охотника» Тургенева и другие произведения, обличавшие крепостническую действительность.
От взгляда властей не укрылось значение обличительного гоголевского направления литературы для освободи тельного движения эпохи. В 1848 году шеф жандармов Орлов представил Николаю I докладную записку «об особенном характере новейшей нашей журналистики», в которой, между прочим, особо отмечалось, что Белинский «одобряет только тех писателей, которые подражают Гоголю», и что следствием того, «сверх уничтожения чистого вкуса, могут усилиться дурные привычки и даже дурные мысли».
Совершенно ясно, какие «дурные мысли» имел в виду автор этой докладной записки. Именно Белинский был первым критиком, глубоко оценившим революционизируйющее влияние реализма Гоголя и показавшим, что произведения гениального сатирика раскрыли русским читателям глаза на уродливость общественных отношений в крепостнической России, на ужас рабского положения народа.
Смерть не позволила Белинскому осуществить его давний замысел — написать обобщающую работу о гоголевском пери оде русской литературы, подобно тому как был написан им в на чале 40-х годов знаменитый цикл статей о Пушкине. Затем в русской критике наступил период упадка и застоя. В годы реакции невозможно было полным голосом говорить об истин ном смысле творчества Гоголя, о взрывчатой силе его реалистических произведений, о его бичующей сатире. Пользуясь этим, дворянско-буржуазные литера торы и публицисты стали исподволь подвергать пересмотру оценки Белинского, взгляды его на искусство и объявили поход против писателей гоголевской школы, произведения которых были проникнуты духом протеста и обличения.

'Современнике'
Консервативно настроенная критика противопоставляла гоголевскому направлению пушкинское, якобы вне общественное и чисто эстетическое. Идеологи реакции, защищая крепостнический строи, пытались использовать имя Пушкина в борьбе с литературой критического реализма. Пушкин, по утверждению Дружинина, «создавал идеальные образы, находил положительно идеальные черты в тех явлениях и сферах нашей жизни, которые после него вызывают исключительно чувство отрицания... Против того сатирического направления, к которому привело нас неумеренное подражание Гоголю, поэзия Пушкина может послужить лучшим оружием».
Писатели революционно-демократического лагеря, объединившиеся в «Современнике», держались другой точки зрения. Некрасов считал священной обязанностью передовой русской литературы дальнейшее развитие гоголевского сатирического направления. Лишь одно это направление, обличающее и протестующее, называл он живым и честным. Он не противопоставлял Гоголя Пушкину, но, подобно Белинскому, подчеркивал особую важность творчества Гоголя для русского общества на новом историческом этапе. Нет никакого сомнения, что Некрасов и Чернышевский в своих беседах не раз возвращались к этой теме.
Осенью 1855 года поэт писал Тургеневу о Гоголе как о самой гуманной и благородной личности в русском мире, как о художнике-патриоте, «который писал не то, что могло бы более нравиться, и даже не то, что было легче для его таланта, а добивался писать то, что считал полезнейшим для своего отечества... Надо желать, — добавлял Некрасов, — чтоб по стопам его шли молодые писатели в России». Письмо свое поэт закончил словами сожаления о том, что нет еще критика, который разъяснил бы это писателям, указав им единственно верный и плодотворный путь.
И вот через несколько месяцев после того, как было на писано это письмо, начиная с декабря 1855 года в «Современнике» стали появляться «Очерки гоголевского периода русской литературы». Чернышевский блестяще разрешил в «Очерках» задачу, которая представлялась революционным демократам наиболее важной для будущего русской литературы: защитить идеи Белинского и Гоголя, продолжить и углубить традиции гениального обличителя самодержавной России, направить литературу на путь критического реализма, на путь борьбы за великие идеалы народа.
«Очерки» сразу поставили их автора в центре литературно-политической борьбы того времени. Молодой сподвижник Некрасова стал вождем передовой русской литера туры, и силу его влияния на читателей можно было сравнивать отныне лишь с силой влияния, какое оказывал до него Белинский.
Подобно «Эстетическим отношениям искусства к действительности», и эта работа Чернышевского была программным, боевым выступлением революционного демократа.
Историческую миссию каждого великого русского писателя Чернышевский видел в служении родине и народу. Как и Белинский, он особенно выделял сатирическое направление в литературе, считая, что оно имеет громадное значение в борьбе с отживающими классами. Оно составляло, по словам Чернышевского, самую живую сторону нашей литературы. С русской сатирой связаны имена Кантемира, Фонвизина, Крылова, Грибоедова, Пушкина. Однако за слуга «прочного введения в русскую литературу сатирического направления» принадлежала Гоголю.
«Ни в ком из наших великих писателей, — говорит Чернышевский, — не выражалось так живо и ясно сознание своего патриотического значения, как в Гоголе. Он прямо себя считал человеком, призванным служить не искусству, а отечеству; он думал о себе: «Я не поэт, я гражданин».
Творчество создателя «Мертвых душ» ответило на самые жгучие вопросы эпохи, обнажило с необычайной художественной силой социальные противоречия царской Рос сии, произнесло грозный приговор крепостничеству. Вот почему Чернышевский утверждал, что «давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России».
В центре «Очерков гоголевского периода» Чернышевский поставил широкое и всестороннее освещение литературно-общественных взглядов Белинского. Он справедливо считал, что деятельность великого критика «занимает в истории нашей литературы столь же важное место, как произведения самого Гоголя».
Весь сложный путь Белинского впервые предстал здесь перед русскими читателями в исторической перспективе, начиная от первых его статей в «Телескопе» и кон чая последними обзорами русской литературы 1846 1847 годов, где Белинский выступал уже как прямой предшественник революционных демократов нового поколения.
Главы, посвященные Белинскому, написаны Чернышевским с исключительным подъемом. Благородный образ борца и патриота встает перед нами с этих страниц. Раскрывая читателям тайну влияния Белинского на умы современников, Чернышевский подчеркивал, что любовь к благу родины была единственной страстью, владевшей критиком, что эта идея одухотворяла всю его деятельность. Эволюция философских и социально-политических взглядов Белинского, завершившаяся решительным поворотом к материализму и революционному мировоззрению, показана Чернышевским с присущей ему силой диалектического анализа. Минуя цензурные рогатки, автор «Очерков гоголевского периода» в последних главах подвел читателей к выводу, что только живое, кровное сочувствие делу народа, делу революции помогло Белинскому так проницательно и глубоко оценить значение творчества Гоголя и писателей реалистической школы.
В «Очерках» Чернышевский не только подводил итоги развития русской литературы 30—40-х годов, — он ясно указывал и пути дальнейшего развития современными писателями тех идей, которые Гоголь «обнимал только с одной стороны, не сознавая вполне их сцепления, их при чин и следствий».
В сатире Некрасова и Салтыкова-Щедрина Чернышевский прозорливо увидел залог более полного проникновения в сущность изображаемых явлений действительности, ибо у этих писателей последовательный реализм сочетался с передовой, революционной мыслью.
Вся дальнейшая литературно-критическая деятельность Чернышевского проходила под знаком развития и углубления тех положений, которые он раз работал с наибольшей полнотой в «Эстетических отношениях искусства к действительности» и в «Очерках гоголевского периода». Это прежде всего относится к его статьям о ранних повестях Льва Толстого, о «Губернских очерках» Салтыкова-Щедрина, о повести Тургенева «Ася», о рассказах из народного быта Н. Успенского.

Литературно-критическая деятельность Чернышевского
Деятельность многих виднейших русских писателей — Тургенева, Льва Толстого, Салтыкова-Щедрина, Островского, Гончарова — развертывалась как раз в ту пору, когда Чернышевский выступал на страницах «Современника» как литературный критик.
В конце 1855 года в Петербург приехал Лев Николаевич Толстой. Начало его литературной известности связано с журналом «Современник». Находясь в армии, сначала на Кавказе, а затем в Крыму, Л. Толстой заочно стал деятельным сотрудником журнала.
В 1852 году Некрасов напечатал первую часть его автобиографической трилогии «Детство», а в последующие три года — «Набег», «Отрочество», «Записки маркера», «Рубку леса» и «Севастопольские рассказы».
К моменту приезда из армии Лев Толстой уже при обрел в литературе прочную репутацию и как равный вступил в среду видных писателей, объединившихся вокруг «Современника».
В эту пору становилось все заметнее и сильнее влияние Чернышевского на дух и направление «Современника».) Лев Толстой в спорах о гоголевском и пушкинском направлениях в литературе примкнул к противникам Чернышевского. О диссертации его «Эстетические отношения искусства к действительности» и несколько позднее об «Очерках гоголевского периода» он отзывался отрицательно и выражал Некрасову сожаление, что Чернышевский играет в «Современнике» столь видную роль.
Есть основания предполагать, что Чернышевскому было известно отношение к нему автора «Детства» и «Отрочества», и тем не менее он считал необходимым бороться за Толстого и, по-видимому, надеялся переубедить его и привлечь на свою сторону.
«На днях приедет Толстой и привезет «Юность» для первого номера «Современника», — писал Чернышевский Некрасову 5 ноября 1856 года. — Я побываю у него, — не знаю, успею ли получить над ним некоторую власть — а это было бы хорошо и для него и для «Современника».
Чернышевский, как и Некрасов, видел в мировоззрении молодого Толстого «следы барского и офицерского влияния»; в одном из писем к Тургеневу критик выразил опасение, что талант Толстого может измельчать, если не переменятся его взгляды. Но хотя взгляды молодого Толстого были совершенно чужды ему, он оценил его как художника по первым произведениям глубже всех других критиков. Тонко и верно оттеняя отличительные свойства его дарования, Чернышевский писал:
«...глубокое знание тайных движений психической жизни и непосредственная чистота нравственного чувства, при дающие теперь особенную физиономию произведениям графа Толстого, всегда останутся существенными чертами его таланта, какие бы новые стороны нивыказались в нем при дальнейшем его развитии».
Еще по ранним произведениям Льва Толстого он раз гадал в нем будущего корифея русской прозы.
«Мы предсказываем, — писал Чернышевский, — что все данное доныне графом Толстым нашей литературе — толь ко залоги того, что совершит он впоследствии; но как богаты и прекрасны эти залоги!»
Разбирая в «Современнике» рассказ «Утро помещика», Чернышевский обращал внимание читателей на то, что писатель с исключительным мастерством воспроизводит не только внешнюю обстановку быта крестьян, но и их внутренний мир.
«Он умеет переселяться в душу поселянина, — его мужик чрезвычайно верен своей натуре, — в речах его мужи ка нет прикрас, нет риторики, понятия крестьян передаются у графа Толстого с такою же правдивостью и рельефностью, как характеры наших солдат... В крестьянской избе он так же дома, как в походной палатке кавказского солдата».
Одним из ярких примеров революционно-публицисти ческой критики Чернышевского была его знаменитая статья «Русский человек на rendez-vous»1 о повести Тургенева «Ася». В статье дана блестящая характеристика дворянских либералов накануне крестьянской реформы 1861 года.
1 (Rendez-vous (франц.) — свидание.)
Она может служить прекрасной иллюстрацией к словам В. И. Ленина о том, что Чернышевский умел «и подцензурыми статьями воспитывать настоящих революционеров»2.
2 (В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 26.)
Вялость и дряблость характера, половинчатость натуры, неспособность к решительному действию — черты, которыми отмечен тургеневский герой NN в повести «Ася», позволили Чернышевскому дать в статье уничтожающую характеристику политической трусости и безволия российского либерального дворянства. Он считал поведение либералов накануне реформы жалким и трусливым, как поведение тургеневского героя на rendez-vous.
Статья эта явилась своего рода политическим манифестом, резким осуждением малодушия тех, кто, расточая фразы о свободолюбии, на деле оказались пособниками крепостников. Чернышевский безошибочно предсказал, как будут вести себя либералы в минуты решительных классовых схваток.
Вместе с тем он обращался к Тургеневу с призывом стать союзником революционной демократии, которая вступала в борьбу с крепостниками.
Почти полвека спустя после появления этой статьи В. И. Ленин клеймил либералов новой формации словами Чернышевского:
«Трагедия российского радикала: он десятки лет вздыхал о митингах, о свободе, пылал бешеной (на словах) страстью к свободе, — попал на митинг, увидел, что настроения левее, чем его собственное, и загрустил... «поосторожнее бы надо, господа!» Совсем как пылкий тургеневский герой, сбежавший от Аси, — про которого Чернышевский писал: — «Русский человек на rendez-vous».
Эх вы, зовущие себя сторонниками трудящейся массы! Куда уж вам уходить на rendez-vous с революцией — сидите-ка дома; спокойнее, право, будет...»1
1 (В. И. Ленин, Сочинения, т. 11, стр. 421—422.)
Такой же революционной страстностью были проникнуты статьи Чернышевского о «Губернских очерках» Салтыкова-Щедрина и о рассказах Николая Успенского.
Прозорливо отметив, что «никто... не карал наших общественных пороков словом более горьким, не выставлял перед нами наших общественных язв с большей беспощадностью», Чернышевский смело назвал «Губернские очерки» «историческим фактом русской жизни».
При внимательном ознакомлении со статьей читатель должен был прийти к выводу, что искоренение пороков и зол, описываемых в «Губернских очерках», достижимо лишь путем революционного изменения общественного строя царской России.
С еще большей ясностью прозвучал этот призыв к революционному действию в статье «Не начало ли перемены?», посвященной разбору повестей и рассказов из на родной жизни Николая Успенского. Она была написана в 1861 году. Оглядываясь на пройденный в 50-е годы русской литературой этап и сравнивая рассказы Н. Успенского с прежними повестями и очерками из крестьянской жизни, написанными дворянскими литераторами, Чернышевский отметил главную отличительную черту Успенского: «он пишет о народе правду без всяких прикрас», тогда как дворянские литераторы идеализировали быт, нравы, обычаи и понятия народа. Их произведения вызывали у читателей чувство сострадания к положению крестьян. Но теперь, на новом историческом этапе, этого чувства уже недостаточно. Необходим иной подход к изображению народной жизни. Ее надо показывать во всей неприглядной наготе, и тогда читатель невольно спросит себя: да может ли длиться дальше такая беспросветно дикая и страшная жизнь? Когда же пробудится народ и сбросит с себя вековое иго?
Ведь «от всяких несправедливостей и наглостей страдает масса, а полезны или приятны они только небольшому числу людей. Отчего же за малочисленными обидчика ми остается сила, а бесчисленные обижаемые находят себя бессильными?»
Понять это, говорил Чернышевский, помогут рассказы Николая Успенского, рисующие с беспощадным реализмом мрак и ужас деревенской жизни.
Критик не ограничился раскрытием особенностей этого нового подхода к крестьянской теме. В обширных отступлениях, которыми изобилует его статья, он смело и настойчиво проводил мысль, что в народе, несмотря на его темноту и дикость, таятся неистощимые силы, которые надобно объединить и направить против угнетателей родины.
Однажды бывший ученик Чернышевского по саратовской гимназии, Турчанинов, учившийся в Педагогическом институте в Петербурге, принес ему рукопись статьи свое го товарища по институту с просьбой посмотреть, годится ли она для «Современника». Это была статья Добролюбова о журнале XVIII века «Собеседник любителей российского слова».
Турчанинов чрезвычайно расхвалил автора и добавил, что горячо любит его.
Прочитав статью, Чернышевский увидел, что она превосходно написана и близка духу журнала.
— Статья хороша, — сказал он Турчанинову, когда тот явился за ответом, — она будет напечатана. Передайте автору, что я прошу его побывать у меня.
Чернышевский запамятовал, что ему и раньше доводи лось слышать фамилию автора этой статьи от Срезневского, читавшего лекции и в Педагогическом институте. За год до этого Срезневский рассказывал Чернышевскому, что два студента Педагогического института, Щеглов и Добролюбов, попали в беду — у них были найдены заграничные издания Герцена. Директор института Давыдов собирался предать огласке это дело, что грозило студентам очень серьезными последствиями.
Обоих студентов было жаль Срезневскому, но особенно жалел он Добролюбова — человека, по его отзыву, благородного, необыкновенно даровитого и уже обладавшего обширнейшими познаниями.
С большим трудом удалось Срезневскому и другим профессорам уговорить директора института не поднимать шума и избавить тем самым молодых людей от беды. Узнав о благоприятном исходе дела, Чернышевский со временем забыл фамилии этих студентов.
Когда Добролюбов пришел к Чернышевскому познакомиться и поговорить о своей статье, между ними завязалась многочасовая беседа. Чернышевский стал расспрашивать Добролюбова — как он думает о том, о другом, о третьем... сам же говорил мало.
- Я хотел увидеть, — заметил он наконец, — достаточно ли подходят ваши понятия к направлению «Современника»; вижу теперь, подходят; я скажу Некрасову; вы будете постоянным сотрудником «Современника».
Затем он стал расспрашивать Добролюбова о личных его делах. Тот рассказал об отце, о своем сиротстве, о сестрах, о своем положении в институте. Когда разговор зашел о том, что он находится в опале у директора Давыдова из-за найденных у него и его товарища Щеглова заграничных изданий Герцена, Чернышевскому сразу вспомнилась история, слышанная от Срезневского.
— Так это были вы, Николай Александрович! Вот что! Когда так, то дело выходит неприятное для вас и для меня, нуждающегося в товарище по журнальной работе. Эту статью, так и быть, поместим: одну статью можно утаить от Давыдова. Но больше не годится вам печатать ничего в «Современнике» до окончания курса. Если бы Давыдов узнал, что вы пишете в журнале, то беда была бы вам.

Добролюбов с Чернышевским
...Так началось знакомство Чернышевского с Добролюбовым, перешедшее вскоре же в тесную дружбу. Никогда прежде Чернышевскому не случалось встречать людей, которые были бы столь же близки ему по своим взглядам и убеждениям, по всему своему душевному строю. Хотя Добролюбов был лет на восемь моложе Чернышевского, однако разница в возрасте не играла роли. Ранняя зрелость мысли, необыкновенно высокий уровень знаний, широта кругозора, цельность и последовательность воззрений на жизнь, исключительная требовательность к себе — вот что поражало всех, кому приходилось сталкиваться с Добролюбовым. Словно бы предчувствуя, как коротка будет его жизнь, Добролюбов неустанно расширял свои знания и спешил кипучей деятельностью возместить ее кратковременность.
Трудно сказать, с чьей стороны были сильнее привязанность и любовь, щедро проявленные ими друг к другу. Чернышевский говорил впоследствии, что он любил Добролюбова как сына. Ни малейшей тенью не омрачены бы ли их отношения. Чернышевский, переживший младшего друга на двадцать восемь лет, посвятил много времени собиранию и обработке материалов для биографии Добролюбова. С поразительной скрупулезностью стремился он воссоздать день за днем историю этой короткой, но славной жизни, посвященной служению родине.
С присущей Чернышевскому скромностью он неизменно стремился внушить окружающим, что ставит своего друга выше себя, считает его дарования более богатыми и блестящими, характер более прямым и последовательным, на туру более сильной и энергичной.
Когда кто-либо из его знакомых и друзей возражал ему, замечая, что Добролюбов вовсе не превосходит его дарованиями и знаниями и силен только в одной области, Чернышевский вскипал и горячо говорил:
«Что вы! Что вы это говорите?! Ведь Добролюбов только что со школьной скамьи, а дайте ему дожить до моих лет, так вы увидите, что из него будет. Еще на школьной скамье он уже окончательно сформировался и установился».
В романе «Пролог», написанном в сибирской ссылке, Чернышевский вывел Добролюбова под фамилией Левицкий. Это фамилия его первого друга на жизненном пути, саратовского семинариста, даровитого юноши, сломленного жизнью.
Впечатление от первой же встречи с Добролюбовым отражено в романе. Волгин (Чернышевский) говорит своей жене на другой день после знакомства с Левицким (Добролюбовым):
« — Проговорил с ним часов до трех. Это — человек, голубочка, со смыслом человек. Будет работать... Да ему двадцать первый год только еще. Замечательная сила ума! Ну, пишет превосходно, не то что я: сжато, легко, блистательно, но это, хоть и прекрасно, пустяки, разумеется, — дело не в том, а как понимает вещи. Понимает. Все понимает, как следует. Такая холодность взгляда, такая само бытность мысли в двадцать один год, когда все поголовно, точно пьяные!»
Тут под «холодностью» взгляда юного Левицкого Чернышевский подразумевал его умение трезво оценивать политические и литературные явления с революционно-демократических позиций, в противовес либеральным критикам и публицистам, которые лишь расточали пышные фразы.
Достаточно было Волгину провести один день в обществе своего будущего друга, чтобы он, не задумавшись, предложил ему писать в журнале, о чем тот хочет, сколько хочет, как сам знает.
« — Толковать с вами нечего. Достаточно видел, что вы правильно понимаете вещи!
— Вы предоставляете мне полную волю в журнале?
— А разве были бы вы очень нужны мне, если бы не так? Сотрудников, которых надобно водить на помочах, можно иметь, пожалуй, хоть сотню; да что в них пользы? Пересматривай, переправляй — такая скука, что легче писать самому... С тех пор как я распоряжаюсь журналом, я искал человека, с которым мог бы разделить работу... Вижу, что вы единственный человек, который правильно судит о положении нашего общества».
Николаев, отбывавший каторгу в Сибири вместе с Чернышевским как раз в период писания «Пролога», рассказывает в своих мемуарах:
«Я помню, он читал нам свой «Пролог пролога». Когда он читал дневник Левицкого, голос его задрожал, в нем по слышались слезы. И он убежал тогда на полчаса, вероятно, хотел остаться один со своими слезами. Он вообще не мог без слез вспоминать Добролюбова — так сильно он любил его».
* * *
После первой встречи Добролюбов стал чаще и чаще бывать у Чернышевского. Общение с ним открыло для него новый мир. Он признавался своему другу по институту:
«С Николаем Гавриловичем сближаюсь все более и все более научаюсь ценить его... Знаешь ли, этот один человек может примирить с человечеством людей, самых ожесточенных житейскими мерзостями. Столько благородной любви к человеку, столько возвышенности в стремлениях и высказанной просто, без фразерства, столько ума строго последовательного, проникнутого любовью к истине, — я не только не находил, но не предполагал найти».
Двадцатилетний юноша отлично понимал, какое огромное значение для него имело это знакомство. Они проводили время в беседах о литературе, о философии, политике, и Добролюбову вспоминалось при этом, как Станкевич и Герцен учили Белинского, а Белинский, в свою очередь, Некрасова.
В 1856 году Некрасов надолго уезжал для лечения за границу.
Доверие его к Чернышевскому было уже так велико, что он поручил ему редактировать «Современник». Николай Гаврилович, зная заранее, что в связи с отъездом Некрасова ему придется работать не покладая рук, предложил жене провести это лето с сыном Александром у родных в Саратове.
Некрасов накануне своего отъезда писал Чернышевскому в официальном письме:
«...Сим передаю Вам мой голос во всем, касающемся вы бора и заказа материалов для журнала, составления книжек, одобрения или неодобрения той или другой статьи и т. д. так, чтоб ни одна статья в журнале не появлялась без Вашего согласия, выраженного надписью на корректуре или оригинале».
По особому условию, заключенному с Некрасовым, Чернышевский должен был, кроме общего руководства журналом, писать статьи для отдела критики и библиографии и заведовать этими отделами, составлять статьи для отдела наук, смеси и иностранных известий, писать обзоры журналов, читать корректуры журнала и заготовлять для него материалы.
За короткий предшествующий срок — всего полтора го да сотрудничества в «Современнике» — Чернышевский, не имевший прежде никакого опыта в журнальной работе, на столько хорошо освоился с ней, что Некрасов спокойно мог поручить ему не только идейное руководство лучшим журналом в России, но и всю сложную, многообразную работу по редактированию.
Приход Добролюбова в журнал после окончания института был как нельзя более своевременным. С осени 1857 года он всецело взял на себя ведение раздела критики и библиографии. Чернышевский, освободившись от этой обязанности, получил возможность заняться отделами политики, философии, истории, политической экономии.
Он понимал, что эти разделы, остававшиеся до послед него времени без руководства, потребуют его деятельного участия, и у него уже созрел план перестройки «Современника» в соответствии с новыми задачами.
Еще в «Очерках гоголевского периода», говоря о своем предшественнике Белинском, Чернышевский писал:
«...он чувствует, что границы литературных вопросов тесны, он тоскует в своем кабинете, подобно Фаусту; ему тесно в этих стенах, уставленных книгами, — все равно, хорошими или дурными, — ему нужна жизнь, а не толки о достоинстве поэм Пушкина».
Позиции Чернышевского в журнале укрепились. Уже несколько его единомышленников—Добролюбов, Михайлов, печатавший оригинальные и переводные стихотворения, статьи, Сераковский, составлявший иностранные известия, — сотрудничали в «Современнике».
Некрасов по возвращении из-за границы, где он про был около года, с увлечением отдался снова редакционным заботам. Теперь наряду с Чернышевским ближайшим помощником его стал и Добролюбов.

Чернышевским ближайшим помощником его стал и Добролюбов
Еще при первом знакомстве с Добролюбовым Некрасов сказал Николаю Александровичу, что просит его писать в журнале, сколько он успеет, — чем больше, тем лучше. Опытным редакторским взглядом поэт сразу же оценил блестящие способности и обширные знания молодого критика.
Втроем намечали они теперь программу каждого номера и разрабатывали различные журнальные проекты.
Либерально-дворянские писатели, сотрудничавшие в «Современнике», упрекали Некрасова за его приверженность к мальчишке-семинаристу, как презрительно называли они Добролюбова, и за верность Чернышевскому, который стал уже признанным идейным вождем журнала.
А. Я. Панаева, близко знавшая окружение поэта, вспоминала впоследствии, как настойчиво убеждали его Тургенев, Григорович и другие отречься от «публицистов-отрицателей». Но Некрасов все же не уступал. Все его симпатии были на стороне Чернышевского.
Как-то раз за обедом у Некрасова Тургенев сказал:
— Однако «Современник» скоро сделается исключительно семинарским журналом; что ни статья, то семинарист оказывается автором!
— Не все ли равно, кто бы ни написал статью, раз она дельная, — возразил ему Некрасов.
— Да, да! Но откуда и каким образом семинаристы по явились в литературе? — вмешался в разговор Анненков1.
1 (П. В. Анненков — либеральный критик 40—60-х годов.)
— Вините, господа, Белинского, это он причиной, что ваше дворянское достоинство оскорблено и вам приходится сотрудничать в журнале вместе с семинаристами, — иронически заметила Авдотья Яковлевна Панаева, которая в подобных спорах всегда защищала Чернышевского и Добролюбова от нападок со стороны литераторов-дворян. — Как видите, не бесследна была деятельность Белинского: проникло-таки умственное развитие и в другие классы общества.
— Вот, оказывается, господа, какого мнения здесь о нас! — заметил Тургенев, горько улыбнувшись.
Ополчаясь против Чернышевского и Добролюбова, писатели-либералы тем не менее нередко вынуждены были признавать их огромную интеллектуальную и моральную силу, обширность их знаний.
«Между сотрудниками «Современника», — пишет А. Панаева, — Тургенев был, бесспорно, самый начитанный, но с появлением Чернышевского и Добролюбова он увидел, что эти люди посерьезнее его знакомы с иностранной литературой. Тургенев сам сказал Некрасову, когда побеседовал с Добролюбовым:
— Меня удивляет, каким образом Добролюбов, не давно оставив школьную скамью, мог так основательно ознакомиться с хорошими иностранными сочинениями! И какая чертовская память!
— Я тебе говорил, что у него замечательная голова! - ответил Некрасов. — Можно подумать, что лучшие профессора руководили его умственным развитием и образованием! Это, брат, русский самородок... утешительный факт, который показывает силу русского ума, несмотря на все неблагоприятные общественные условия жизни. Через десять лет литературной своей деятельности Добролюбов будет иметь такое же значение в русской литературе, как и Белинский.
Тургенев рассмеялся и воскликнул:
— Я думал, что ты бросил свои смешные пророчества о будущности каждого нового сотрудника в «Современнике»!
— Увидишь, — сказал Некрасов.
— Меня удивляет, — возразил Тургенев, — как ты сам не видишь огромного недостатка в Добролюбове, чтобы можно было его сравнить с Белинским! В последнем был священный огонь понимания художественности, природное чутье ко всему эстетическому, а в Добролюбове всюду сухость и односторонность взгляда! Белинский своими статьями развивал эстетическое чувство, увлекал ко всему возвышенному!.. Я даже намекал на этот недостаток Добролюбову в моих разговорах с ним и уверен, что он примет это к сведению.
— Ты, Тургенев, забываешь, что теперь не то время, какое было при Белинском. Теперь читателю нужны разъяснения общественных вопросов, да и я положительно не согласен с тобой, что в Добролюбове нет понимания поэзии; если он в своих статьях слишком напирает на нравственную сторону общества, то, сам сознайся, это необходимо, потому что она очень слаба, шатка даже в нас, представителях ее, а уж о толпе и говорить нечего».
Все чаще и чаще возникали подобные споры в редакции «Современника». И хотя Некрасова связывали с Тургеневым давние дружеские отношения, он понимал., что разрыв их в недалеком будущем станет неизбежным.
Поэт высоко ценил творчество Тургенева, Льва Толстого, Григоровича, Островского и очень дорожил сотрудничеством их в «Современнике». В 1856 году он позаботился даже о заключении с этими писателями «обязательного соглашения», которым оговаривалось их ближайшее участие в журнале. Но чем яснее и отчетливее выявлялась революционно-демократическая программа, осуществлявшаяся в «Современнике» Чернышевским и Добролюбовым, тем неизбежнее становился отход от журнала прежних его сотрудников, которые не разделяли революционного образа мыслей новых руководителей журнала.
Тургенев видел, что теперь он с каждым днем теряет прежнее свое влияние в редакции, и уже почти не мог скрывать резко недоброжелательного отношения к прямолинейности и последовательности критических суждений Добролюбова и Чернышевского.
Статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», посвященная разбору романа Тургенева «Накануне», а затем рецензия Чернышевского на книгу Готорна «Собрание чудес», затрагивавшая косвенно роман Тургенева «Рудин», были восприняты писателем как выпады против него. Задетый ими, он решительно отказался от участия в «Современнике».
Появление этих статей было, конечно, только внешним поводом для разрыва, истинные причины которого коренились глубже.
Вскрывая их, Чернышевский писал:
«Наш образ мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что он перестал одобрять его. Нам стало казаться, что последние повести г. Тургенева не так близко соответствуют нашему взгляду на вещи, как прежде, когда и его направление не было так ясно для нас, да и наши взгляды не были так ясны для него. Мы разошлись».
Репутация передового журнала, созданная «Современнику» трудами Чернышевского и Добролюбова, стала уже настолько прочной, что даже уход из него таких писателей, как Тургенев и Лев Толстой, не могли поколебать ее. Ликование беспринципных реакционных журналистов по по воду этого разрыва оказалось напрасным — тираж журнала продолжал неуклонно возрастать.
Нередко целые дни проводили Чернышевский и Добролюбов в квартире Некрасова за работой. Квартира поэта, которую писатели в шутку называли «литературным подворьем», состояла из четырех комнат. Несмотря на то что у Некрасова вечно толклись посетители: знакомые и приятели поэта, а также литераторы, связанные с «Современником», работа не приостанавливалась.
Чернышевскому и Добролюбову приходилось задерживаться у Некрасова до поздней ночи, потому что то и дело возникала надобность посоветоваться друг с другом о спешных делах журнала.
Иногда по вечерам ближайшие сотрудники «Современника» сходились в кабинете редактора отдохнуть и побеседовать. Некрасов в такие минуты старался вызвать на разговор Чернышевского, который в незнакомом обществе обычно держался молчаливо, но в привычном кругу одушевлялся и говорил настолько увлекательно и живо, что сразу приковывал к себе общее внимание.
В этих собеседованиях Николай Гаврилович всегда поражал слушателей необыкновенным богатством знаний в любой отрасли науки. Разговорившись, он то рисовал кар тину жизни в будущем обществе, то подвергал глубокой критике устаревшие экономические системы, то доказывал неразрывную связь философии с естественными науками, то, переносясь в прошлое, рисовал сцены из жизни античного общества, из истории французской революции или из эпохи Возрождения...
* * *
Далеко позади было то время, когда Чернышевские жили в Петербурге уединенно и замкнуто. Теперь на «четвергах» у Николая Гавриловича можно было встретить людей самых различных профессий и положений: тут бывали и литераторы, и профессора, и военные, и студенты все передовые деятели того времени тянулись к этому центру умственной жизни страны.
В России тогда не было другого человека, который с та кой же ясностью и прозорливостью мог бы раскрыть политический смысл каждого явления и события, показать его причины, предугадать последствия, направить сознание лучших людей на единственно верный путь, на путь революционной борьбы с монархией и крепостниками.
Даже люди, не разделявшие политических убеждений революционного демократа, такие, например, как историк Н. И. Костомаров, признавали, что «никто в России не имел такого огромного влияния в области революционных идей на молодежь, как Чернышевский, и, несмотря на все изменения, каким подвергалось революционное направление в умах русской молодежи, Чернышевский для всех революционеров наших остался каким-то патриархом».
Идеи Чернышевского проникали через журнал в отдаленные уголки России. Особенно «Очерки гоголевского периода русской литературы» сделали его имя популярным среди читателей.
Один из участников крымской войны, офицер Новицкий, познакомившись с Чернышевским у его друга Сераковского, сказал, обращаясь к Николаю Гавриловичу:
— А мы на батареях читали «Современник» и читали «Очерки гоголевского периода», особенно в последние месяцы войны, когда мы стояли уже в степи...
Этот офицер стал бывать у Чернышевского. Он многим интересовался, жадно читал политико-экономические и философские труды, но на первых порах не всё в этих книгах было ему понятно, и он часто обращался к Чернышевскому за разъяснениями. Чем ближе узнавал Новицкий Николая Гавриловича, тем более поражали его простота, отзывчивость и готовность делиться своими знаниями.
Случалось, что Новицкий приходил к Чернышевскому в то время, когда тот диктовал очередную статью для «Современника».
Николай Гаврилович тотчас прерывал работу, начинал беседовать с гостем и, указывая на Воронова, шутливо говорил:
— А он пускай в это время побегает...
Однажды летним вечером на квартиру к Чернышевскому явился застенчивый молодой человек, с неловкими манерами, в потертом костюме. В руках у него был клетчатый дорожный сак. Молодой человек оказался земляком Николая Гавриловича, с которым он изредка встречался прежде в Саратове. Это был тамошний помещик Павел Александрович Бахметев. Он рассказал Чернышевскому, что продал свое имение, все имущество и решил теперь покинуть Россию, хотя и горячо любит родину. Под влиянием социалистической литературы и сочинений Герцена он пережил нравственный перелом и теперь принял бесповоротное решение покончить с прежним образом жизни. Он намеревался отправиться на Маркизские острова с целью основать там земледельческую колонию типа коммуны, чтобы жить с людьми по-братски на совершенно новых социальных основаниях.
Он добавил, что хочет непременно заехать в Лондон к Герцену и передать ему значительную сумму денег, полученную от продажи своего имения, на дела русской пропаганды.
Прощаясь с Чернышевским, гость попросил проводить его, и они вышли вместе, продолжая разговор о планах Бахметева. Беседа их затянулась, и, сами того не замечая, они пробродили всю ночь, гуляя по набережной Фонтанки...
Бахметев хорошо запомнился Чернышевскому. Некоторые черты биографии этого необычного человека послужили впоследствии Николаю Гавриловичу материалом для создания образа Рахметова.
Много лет спустя, уже находясь в Сибири, Чернышевский, рассказывая однажды товарищу по ссылке о своем знакомстве с Бахметевым, заметил:
«В своем романе я назвал особенного человека Рахметовым в честь именно вот этого Бахметева».
Герцен в «Былом и думах» подробно описал свою встречу с Бахметевым в Лондоне, передачу Бахметевым двадцати тысяч франков на дела пропаганды и его отъезд на Маркизские острова.
Неизвестно, что сталось впоследствии с Бахметевым и удалось ли ему осуществить свой план основания коммуны.
Поэт-петрашевец Плещеев, живя в ссылке в Оренбургском крае, с жадностью читал в «Современнике» статьи Чернышевского. Особенно сильное впечатление произвели на него «Очерки гоголевского периода».
По возвращении из ссылки в Петербург в 1858 году Плещеев встретился с Чернышевским у Некрасова. На всю жизнь сохранил он память о том, с каким искренним сочувствием отнесся Чернышевский к нему, как живительны были для него беседы с Николаем Гавриловичем.
«Я тогда не имел еще почти никакого литературного имени, — вспоминал впоследствии Плещеев, — и ободряющий голос такого крупного литературного деятеля имел для меня огромное значение. Никогда я не работал так много и с такой любовью, как в эту пору... Сколько хороших, незабвенных вечеров проводил я у него!..»
Известный беллетрист Помяловский писал Чернышевскому:
«Я вас уважаю, мало того, я ваш воспитанник: — я, читая «Современник», установил свое мировоззрение».
Знаменитый художник Александр Иванов именно у Чернышевского искал моральной поддержки в тот период, когда переживал глубокий душевный кризис, в корне изменивший его взгляды на жизнь и на цели искусства.
Более четверти века с упорством средневекового отшельника работал он до этого времени в Италии над своей кар тиной «Явление Христа народу». Выбор сюжета был про диктован Иванову его религиозным образом мыслей.
«Молодым человеком, — вспоминал впоследствии Герцен, — принялся Иванов за свою картину... и состарился с нею; кисть, взятая юношеской рукой, ослабела на том же полотне; целая жизнь была употреблена на созерцание, обдумывание, изучение своего предмета, и при каких условиях!»
Иванов жил в Италии в нищете, погруженный в свою работу.
Герцен, встречавшийся с Ивановым в Риме незадолго до революции 1848 года, тщетно пытался тогда поколебать его религиозно-мистические взгляды.
Но влияние самой жизни и революционные бури, про несшиеся над Европой, заставили художника пересмотреть свои убеждения. Все же понадобилось несколько лет, чтобы он окончательно вырвался из плена религиозно-мистических идей.
В 1857 году Герцен неожиданно получил от Иванова письмо, каждое слово которого дышало «иным веянием, сильной борьбой; запертая дверь студии не помешала, мысль века прошла сквозь замок, страдания побитых раз будили его...»
Иванов писал Герцену:
«Следя за современными успехами, я не могу не заметить, что и живопись должна получить новое направление».
Страстно ища истины, художник решил встретиться с Герценом, чтобы в беседах с ним уяснить для себя новые идеалы, навеянные революцией и чтением научно-критической литературы по истории христианства.
При встрече с Герценом в Лондоне Иванов с жаром признался ему, что он еще не может воплотить в образах искусства свое новое воззрение, а старого касаться считает преступным.
Выслушав его горячую исповедь, Герцен со слезами на глазах обнял Иванова и сказал:
— Хвала русскому художнику, бесконечная хвала! Не знаю, сыщете ли вы форму вашим идеалам, но вы подаете не только великий пример художникам, но даете свидетельства о той непочатой, цельной натуре русской, которую мы знаем чутьем, о которой догадываемся сердцем и за которую, вопреки всему делающемуся у нас, мы так страстно любим Россию, так горячо надеемся на ее будущность!
Вскоре по приезде в Петербург Иванов пришел к Чернышевскому и просил помочь ему разобраться в вопросах философского материалистического учения. Чернышевский был несколько удивлен самым интересом художника к этому предмету, так как считал его приверженцем чуждого материализму направления.
Они заговорили о книге Фейербаха «Сущность христианства», которую Иванов принес с собой.
— Неужели вас так сильно занимают исследования этого философа? — спросил Николай Гаврилович Иванова.
— А как же! Ведь я должен знать, каким образом понимают ныне передовые люди нашей цивилизации тот предмет, из которого преимущественно берет свои сюжеты искусство. Художник должен стоять в уровень с понятиями своего времени.
Много часов провел Иванов в тот день в беседе с Николаем Гавриловичем.
— Новое время, — говорил он, — требует нового искусства. Идея нового искусства, сообразного с современными понятиями и потребностями, до сих пор еще не вполне прояснилась во мне. Я должен еще много и неусыпно трудиться над развитием своих понятий...
Мы, художники, получаем слишком недостаточное общее образование, — это связывает нам руки. Сколько сил у меня достанет — буду стараться, чтобы молодое поколение было избавлено от недостатка, от которого мне пришлось избавляться так поздно. Вот теперь я, как видите, должен узнавать с большими затруднениями то, что другие узнают в университете. А как трудно отделываться в мои лета от вкоренившихся понятий!
Если я получу какое-нибудь влияние на искусство в России, я прежде всего буду хлопотать об устройстве такой школы живописи, где молодые люди, готовящиеся быть художниками, получали бы основательное общее образование. Руководителем в живописи молодых художников с таким приготовлением я желал бы быть. В среде их могло бы развиться новое направление искусства.
Я уже стар, а на развитие искусства, удовлетворяющего требованиям новой жизни, нужны десятки лет. Буду трудиться, мало-помалу научусь яснее понимать условия нового искусства, а потом выйдут из молодого поколения люди, которые совершат начатое мною.
- Но скажите хотя в общих чертах, в каком виде представляется вам новое направление искусства, насколько оно стало уже понятно для вас?—спросил его Чернышевский.
— С технической стороны оно будет верно идеям красоты, которым служили Рафаэль и его современники... Соединить рафаэлевскую технику с идеями новой цивилизации — вот задача искусства в настоящее время. Прибавлю вам, что искусство тогда возвратит себе значение в общественной жизни, которого не имеет теперь, потому что не удовлетворяет потребностям людей.
Этот разговор с Ивановым убедил Чернышевского в том, что собеседник его принадлежит «к небольшому числу избранных гениев, которые решительно становятся людьми будущего, жертвуют всеми прежними своими понятиями истине...»
Большие планы ставил перед собой Иванов, но силы художника были надломлены десятилетиями нужды и лишений. Ему так и не довелось претворить в жизнь свои глубокие замыслы. Не прошло и трех месяцев после этой встречи Иванова с Чернышевским, как художника не стало.
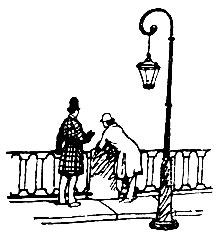
© Злыгостев Алексей Сергеевич, 2013-2018
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://n-g-chernyshevsky.ru/ "N-G-Chernyshevsky.ru: Николай Гаврилович Чернышевский"
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://n-g-chernyshevsky.ru/ "N-G-Chernyshevsky.ru: Николай Гаврилович Чернышевский"