

|
Окончание университета

Окончание университета
Незаметно подошло время выпускных экзаменов и окончательного расставания с университетом. Разбирая в один из воскресных мартовских дней все свои накопившиеся за четыре года университетские тетради, он почувствовал что-то похожее на сожаление о прошедшем.
«Итак, в последний раз... — думал он, перелистывая записи лекций Фрейтага, Фишера, Устрялова, Срезневского, Куторги, Неволина...— Скоро все это станет чуждо».
13 марта Срезневский читал студентам четвертого курса свою последнюю лекцию. Он закончил ее словами, глубоко тронувшими Чернышевского:
— Вот скоро и вы вступите на самостоятельную дорогу. Что же пожелать вам на прощание? Любите науку, она нам необходима — строгая в исследованиях, ответственная перед целым светом, но родная по направлению, по языку. Она должна быть основой и судьей наших успехов, вожатым промышленности, светом для всех одинаково открытым... Любите науку, не в себе только, а во всех ей преданных, теплите эту любовь в юношах...
Провожая взглядом сходившего с кафедры профессора, Чернышевский опять, как и при разборе тетрадей, ловил себя на том, что в душу невольно прокрадывается сожаление о завершающейся полосе университетской жизни. Более всего ему было жаль теперь, что он уже перестанет быть слушателем Измаила Ивановича.
Спрашивая себя, почему не осталось такого же чувства привязанности ни к какому другому профессору, он отвечал себе: «Это оттого, должно быть, что Срезневский слишком горячо любит свою науку».
Тут вспомнился ему один разговор на квартире Измаила Ивановича. Было это еще в начале года. Он принес профессору отредактированные его лекции. Часть их была переписана в тетрадях, часть — на почтовой бумаге.
— Для единообразия, Измаил Иванович, я перепишу и это в тетради, — сказал он, отделяя листы почтовой бумаги.
— Ну стоит ли трудиться, — запротестовал Срезневский, — не все ли равно? А между тем позвольте мне в благодарность подарить вам мою последнюю книгу — «Мысли об истории русского языка».
Рассматривая подарок, Чернышевский заметил:
— Тут есть опечатки.
— Как же, и весьма нелепые! — живо откликнулся профессор. — Ведь корректуру приходилось читать урывками: буквально задыхаешься от недостатка времени.
— Что же вы не поручили еще кому-нибудь читать корректуру? — спросил Чернышевский, как бы давая понять, что он, например, охотно взял бы на себя этот труд. — Все лучше двое глаз вместо одних.
— Но ведь каждому свое время дорого...
— Помилуйте, разве не все равно пропадает... — не винно солгал Чернышевский из симпатии к учителю. На деле его досуг был слишком ограничен. — Конечно, другое дело, если какая-нибудь чешская или сербская, чего не знаешь... — продолжал он.
— Да, вот, кстати, у меня и чешская корректура лежит, — усмехнулся Срезневский и вздохнул, окинув взглядом стол, заваленный рукописями и книгами.
— Что ж, и чешскую, если есть текст, позвольте попробовать.
— Да мне совестно отнимать у вас столько времени — ведь близятся экзамены. И вообще я не понимаю, что вам за охота губить столько времени для меня...
— Это оттого, — взволнованно сказал Чернышевский, — оттого, что я не встречал такого... ну, просто сказать, такого дельного человека! Извините, может быть, я не имею права произносить своего суждения о вас, но ведь всякий имеет свое мнение...—Тут он на минуту за мялся.
Но Срезневский, заметив его замешательство, быстро вернул разговор к делу:
— У вас нет текста, так вот... — не вставая со стула, он достал с этажерки книгу. — Возьмите ее вовсе.
— Разве же вам не нужна?
— У меня два экземпляра.
— Покорно благодарю...
Вот при каких обстоятельствах пришлось ему однажды высказать прямо в лицо Измаилу Ивановичу, как он о нем думает.
Незадолго до начала выпускных экзаменов Чернышевский обратился к Никитенке с просьбой указать тему для кандидатского сочинения1. Никитенко на минуту задумался.
1 (Для получения низшей ученой степени — кандидата, которая присваивалась лучшим из окончивших университет, необходимо было представить письменную работу на избранную тему. )
— Что ж, попробуйте написать о трех наших комиках: Фонвизине, Шаховском и Грибоедове, — сказал он и, помолчав, добавил: — Но, конечно, с осторожностью...
— Постараюсь, — ответил Чернышевский, — но, может быть, о трех не успею, а об одном Фонвизине...
Никитенко пожал плечами, как бы говоря: «Ну, можно и об одном Фонвизине».
Таким образом, Чернышевский должен был одновременно готовиться к выпускным экзаменам и писать кандидатское сочинение.
Первым по расписанию шел экзамен по философии, психологии и логике у Фишера, назначенный на 8 апреля.
Чернышевский готовился к нему целую неделю. Он перестал посещать Лободовского, отложил все дела, не заглядывал в «газетные» и только, если уж чересчур уставал, уходил среди дня к заливу подышать вольной свежестью весеннего ветра, а потом снова усаживался за чтение пособий и записок...
С каждым днем становилось теплее. Солнечная сторона широких улиц уже просыхала. Нева готовилась вот-вот вскрыться — по льду никто уже не рисковал переходить.
«Лишь бы не вскрылась восьмого, в субботу, а то мосты разведут, а перевоза еще не будет, и экзамен отложат, что всегда неприятно», — думал Чернышевский.
Нева в субботу не вскрылась, но экзамен все-таки бы перенесен на два дня потому, что Фишер должен был присутствовать в этот день на открытии нового цензурного комитета.
10 апреля на экзамен прибыли попечитель и ректор. Плетнев сам вызывал студентов. Вопросы по философии и психологии, хотя и были очень сложны, не затруднили Чернышевского — он отвечал уверенно и свободно...
После философии принялся за латынь. Он ждал подвоха со стороны Фрейтага. Опасаясь, что педантичный латинист воспользуется любым поводом, чтобы поставить не пять, а четыре, Чернышевский погрузился в изучение всех тонкостей неправильных глаголов, но уверенность в том, что Фрейтаг все равно к чему-нибудь да прицепится, наводила на него тоску и заранее вызывала сожаление о тщете всех этих усилий.
Предчувствие, однако, обмануло его. Неприятность случилась, но не на экзамене у Фрейтага — на другом...
Поначалу, правда, казалось, что дело клонится к четверке. Вызвав Чернышевского, Фрейтаг не преминул начать, по обыкновению, с замечания. Едва только стал Чернышевский читать, согласно доставшемуся билету, первую элегию из первой книги Тибулла, как Фрейтаг прервал его:
— Не печальная элегия, поэтому не надо читать таким голосом.
— Это природный порок, — сдержанно возразил Чернышевский и продолжал читать.
Смутила ли его заминка или что другое, но под конец дело не обошлось без оговорки. Впрочем, он тотчас же и поправился, усмехнувшись. Фрейтаг был, по-видимому, в хорошем расположении духа — оговорка только рассмешила его.
— Optime! (Прекрасно!), — сказал он и без размышлений четко вывел пять.
Своими ответами Никитенко на экзамене по русской словесности Чернышевский остался недоволен, хотя экзамен прошел хорошо.
В билете, который он вынул, значилось: по теории литературы — «о высоком», по истории — «об исторических героях и певцах нашей литературы».
Разобрав различные точки зрения на «возвышенное» в искусстве, он перешел уже было к критике укоренившихся понятий на этот счет, но Никитенко не дал ему развернуться. По опыту своих «педагогических» лекции, на которых студенты выступали с докладами, он знал, что взгляды Чернышевского далеки от обычных понятий. Истоки этой новизны были ему не вполне ясны и понятны. Он видел только, что идеи, развиваемые Чернышевским, родственны идеям Белинского и Герцена и направлены против того, что всегда казалось ему непреложным, незыблемым, вечным.
Его коробило порой и раздражало втайне, что студент и не думает ни в чем следовать тем мыслям, которые он, Никитенко, старался привить своим слушателям, говоря об искусстве.
На лекциях во время собеседований, когда случалось говорить Чернышевскому, Никитенко часто оспаривал его, но логика и исключительные диалектические способности, свойственные Чернышевскому, ставили иногда самого профессора в тупик. Сознавая в душе правоту студента, он с неудовольствием спешил прекратить тот или иной диспут, если спор принимал невыгодный для него оборот.
Так и теперь, увидев, что Чернышевский переходит в ту область, где не раз обнаруживались их разногласия, Никитенко, досадливо насупив брови, сделал вид, что вполне удовлетворен ответом, и попросил Чернышевского перейти ко второму вопросу.
Каждая буква «Повести временных лет», «Задонщины», «Слова о полку Игореве» и других памятников древней литературы была отлично знакома Чернышевскому по работам, которые он выполнял у Срезневского.
Он начал издалека — с летописи Нестора и почему-то до самого конца экзамена не мог отделаться от ощущения, что говорит плохо, хотя говорил, как обычно, обстоятельно и веско.
«Что за притча? Почему так мерзко получается у меня сегодня?» — спрашивал он себя, глядя на Никитенко, и с удивлением отметил, что тот удовлетворенно кивает головой, показывая ему, что очень доволен ответом...
Пасхальные каникулы, наступившие в конце апреля, прервали на время дальнейший ход экзаменов. В это время пришло из Саратова известие о смерти тамошнего учителя словесности в гимназии — Волкова. Узнав об этом. Чернышевский запросил родителей, не угодно ли будет им, чтобы он по окончании курса попросился на это место?
Ответ родителей был неопределенный. Они колебались, не знали, на что решиться...
Нечего и говорить, как им хотелось, чтобы Николенька служил в Саратове, но не отзовется ли это на будущем их сына? Он не должен ни в коем случае жертвовать своим будущим их желанию видеть его рядом с собой. Но каковы же все-таки его надежды и планы? Каков его собственный выбор? — спрашивали они. Может быть, он по окончании университета получит право служить в министерствах? Не помогут ли его устройству влиятельные земляки, упрочившиеся в столичном чиновничьем мире?
Из ответа его явствовало, что легче выиграть по лотерейному билету, нежели получить место в столице.
Искателей везде бездна и все с большими протекция ми. Не места ищут здесь людей, а люди ищут места... Право служить в министерствах получают из окончивших университет трое каждый год, по одному из каждого факультета. Преимущество отдается тому, у кого лучшие баллы на выпускных экзаменах.
Остаться при университете с самого начала нельзя будет. Хорошо, если захотят причислить к нему и тогда, когда выдержишь экзамен на магистра1.
1 (Магистр — здесь: низшая, сравнительно с доктором, ученая степень. Присуждалась лицу, которое по окончании университета выдержит особое устное испытание в известной отрасли наук и публично защитит одобренную факультетом диссертацию. )
Протекции? Нет, он убеждает отца не утруждать просьбами о нем ни бывшего саратовского губернатора Переверзева, ни преосвященного Иакова, ни действительного статского советника Репинского, ни кого-либо другого.
Уж лучше Саратов. Он рассудил, что служба в каком-либо департаменте помешает, пожалуй, его намерению идти по ученой части даже больше, нежели отъезд из Петербурга. Однако жаль расставаться с Петербургом, хотя бы и на время...
Он тоже колебался.
«Я буду просить о месте в Саратове, — писал он родным. — Если удастся получить его, я буду, живя там, готовиться на магистра».
Отправляясь на экзамен к Срезневскому, Николай Гаврилович не тешил себя никакими иллюзиями, но все-таки с интересом ждал, что скажет попечителю Срезневский о нем и о другом студенте — своем любимце Корелкине.
Экзамен затянулся, потому что попечитель прибыл с большим опозданием. Дожидаясь его, Срезневский долго не начинал, потом наконец стал вызывать тех студентов, которым решительно нечем было блеснуть, — Залемана, Главинского, Орлова — и дотянул таким образом до приезда попечителя.
Тогда наступила очередь Корелкина и Чернышевского. Первому достался билет «болгарское ли наречие церковно славянское или нет?», второму — «о сербской народной литературе».
Чернышевский хотел было обдумать свою тему, пока говорил Корелкин, но невольно отвлекся и стал слушать его. Тот волновался и, отвечая, усиленно жестикулировал.
Ответ Корелкина понравился попечителю. Он процедил несколько похвальных слов, а когда Срезневский заметил, что господин Корелкин вполне достоин быть оставленным при университете, он сказал:
— Нет, пусть едет в Псков — на время нужно выехать отсюда.
Теперь уже ясно, что решительно не на что рассчитывать. Каков бы ни был результат экзамена, Срезневский и не станет говорить об оставлении при университете.
Свой ответ Николай Гаврилович начал с общего взгляда на отношение народных песен к произведениям письменной литературы, а затем рассмотрел условия, благо приятствующие расцвету народной поэзии.
— Только там, — говорил он, — полна жизни и силы народная поэзия, где масса народа волновалась благородными чувствами, где совершались силой народа великие события. Она особенно пышно расцветает у народов энергических, полных кипучей жизни, искренности, достоинства и благородства. Эта поэзия дышит свежестью поэтического содержания, способного покорить наше воображение...
С жаром и страстью он прочитал наизусть большие отрывки из песни о косовской битве, в которой геройски погибло сербское войско, сражавшееся с поработителями — турками.
Временами он прерывал чтение, чтобы разобрать со держание того или иного отрывка. Сербские народные песни он ставил едва ли не выше всего, что дал мировой эпос. С особенным воодушевлением говорил он о том, что народная поэзия сербов и посейчас сохранила первоначальную силу и свежесть: свидетельство тому — песни, собранные Вуком Стефановичем Караджичем...
Срезневский, все время внимательно следивший за Чернышевским, любовался стройностью его изложения и превосходным знанием предмета. На старчески дряблом лице попечителя не было видно и следа какого-нибудь интереса к тому, о чем рассказывал студент.

Срезневский
Когда Измаил Иванович стал говорить о способностях Чернышевского, о его работе над словарем летописи, об обработке записи лекций и прочее, Мусин-Пушкин слушал его с непроницаемо холодным выражением лица.
- Так... А что же вы предполагаете делать по окончании курса? — спросил он наконец, обращаясь к Чернышевскому.
- Надеялся получить место учителя гимназии.
- Ну, зайдите ко мне послезавтра.
— Перейдем к следующему, — сказал Срезневский, видя тщетность всех своих усилий.
* * *
— Я и раньше говорил вам, что Мусин-Пушкин дурно отзывается о вас и странно относится к вам... — сказал Срезневский Николаю Гавриловичу, когда тот пришел к нему вечером с тетрадями записей его лекций по второму, третьему и четвертому курсам. — Тут уж ничего не поделаешь, ничего не поделаешь...
Чернышевскому хотелось посоветоваться с Измаилом Ивановичем, ехать ли в Саратов или стараться устроиться в Петербурге, но прямо начать разговор казалось неловким, поэтому, кладя на стол тетради, он сказал, указывая на лекции четвертого курса:
— Это уж как случится, а это (тут он выделил кипу тетрадей второго курса), это я возьму у вас, если останусь здесь, чтобы переделать.
— А останетесь ли вы здесь?
— Как случится, я сам теперь не знаю...
И Чернышевский рассказал о письме родителей, о смерти учителя саратовской гимназии, о возможности просить назначения на освободившееся место, о том, что в Саратове можно будет продолжать работу над словарем и готовиться к экзамену на магистра...
— Если так, — сказал Срезневский, — то я могу попросить попечителя Казанского округа — он сейчас здесь, чтобы вам предоставили это место.
— Теперь я не знаю, как вам и сказать, ответил Чернышевский, — если вы поговорите с попечителем, это значит наверное получить место там, а это, я сам не знаю, хорошо ли будет...
Разговор был прерван приходом жены Срезневского. Николай Гаврилович простился и ушел.
«То, что я прослужу в Саратове год-другой, — рассуждал он сам с собой, возвращаясь от Срезневского, — не только не помешает, а, напротив, может быть, пособит успешно подготовиться к экзамену, который я буду держать непременно».
Однако мысль о расставании с Петербургом и опасение, что оно может оказаться длительным, наводила на него тоску, которую он ничем не мог рассеять.
Остановившись на Сенатской площади и окинув ее взглядом, он с необыкновенной ясностью ощутил вдруг, как милы ему и эти дома, и памятник Петру, и строгие улицы, и самая площадь.
«Странно, — думал он, — какую любовь внушает к себе своим обитателям Петербург... Отчасти потому, может быть, что здесь средоточие всех надежд для всякого, а от части ведь и совершенно бескорыстна эта любовь...»
Через день он был у попечителя. Явился рано — прием еще не начинался, — и ему пришлось долго прождать на лестнице, прежде чем он очутился в кабинете Мусина-Пушкина.
Чернышевский напомнил, что хлопочет о месте учителя в Саратове и что Молоствов, попечитель Казанского округа, здесь.
— Хорошо, я дам вам письмо, что знаю вас как достойного человека, — сказал Мусин-Пушкин.— Но объясните мне, почему вам туда хочется?
— Потому что у меня там родители.
— A-а... Хорошо, приходите завтра...
Получив назавтра письмо от Мусина-Пушкина, Чернышевский тотчас направился к Молоствову.
— Какое же вам угодно место? — спросил его тот, прочитав письмо.
— Освободившееся место учителя словесности саратовской гимназии.
— Я не знаю, это место, может быть, я кому-нибудь уже обещал, но что могу — сделаю. Я увижусь с Мусиным-Пушкиным... Вы когда поедете в Саратов?
— Через месяц.
— Так и подадите мне просьбу.
Чернышевский вышел от Молоствова обрадованный не определенностью ответа. «Если так, — думал он, — я и не подам, конечно, потому что должен буду искать здесь место, и, верно, найду, и незачем будет...»
В этом решении укрепил его и Введенский, к которому он зашел в день экзамена у Куторги. Хотя совершенно не когда было в тот день навещать Иринарха Ивановича, но словно бы предчувствие какое влекло туда Николая Гавриловича, и он пошел.
У Введенского сидели Минаев с женой и Билярский, которых Чернышевский встречал у Иринарха Ивановича и прежде. Минаев — стихотворец и переводчик, служивший в ту пору в провиантском департаменте, нравился Николаю Гавриловичу своей непосредственностью и веселым нравом. Он открыто и шумно выражал сочувствие петрашевцам, но в тонкостях социальных теорий разбирался слабо. Будучи лет на двадцать старше Чернышевского, он, однако, с нескрываемым уважением смотрел на юношу, удивляясь его обширным знаниям, его способности сразу находить глубокое и верное объяснение происходившим событиям.
Гости говорили о политике, оживленно обсуждали неизбежность в недалеком будущем переворота в России. С тех пор как на Семеновском плацу учинена была расправа над петрашевцами, разговоры такого рода все чаще возникали среди посетителей Иринарха Ивановича.
— Ни для кого уже не тайна, — говорил Введенский, — что все у нас идет вверх дном. Властям не под силу сдерживать беспорядки, бороться с тысячами злоупотреблений, волнующих всех и каждого. Чувствую, как птица чует приближение грозы, что крушение близко, и оно будет.
С появлением Чернышевского разговор принял еще более резкий характер. Когда гости разошлись, Иринарх Иванович подсел к нему и сказал:
— Сколько у вас экзаменов прошло, сколько осталось?
— Прошло четыре и осталось столько же,— ответил Николай Гаврилович.
— Что думаете делать по окончании курса?
— Просился в саратовскую гимназию.
Иринарх Иванович удивленно поглядел на Чернышевского. Потом с жаром стал отговаривать его:
— Не делайте этого, это значит губить себя, — я сам на себе это испытал. Вы так много переменились здесь, что не сумеете ужиться с теми людьми; для вас это незаметно, потому что постепенно, а я испытал; я ехал, например, туда наслаждаться, а провел время в мучительнейшем состоянии... — Помолчав, он спросил: — А не хотите ли вы получить место в военно-учебном заведении?
— О, если бы это можно было, это было бы весьма хорошо!
— И весьма вероятно, что будет можно. Я вам скажу по секрету: есть место учителя русской словесности в Дворянском полку. Подайте просьбу, напишите, что пред ставите документы к назначенному времени, и все тут. Назначение в августе, до тех пор можно будет отдохнуть, а перед тем месяц заняться.
— Я был бы чрезвычайно благодарен вам за это, — про говорил Чернышевский, растроганный заботой о нем Иринарха Ивановича.
— Подавайте же, только разузнайте сначала в Штабе форму прошения. Это необходимо.
С тем и поспешил Николай Гаврилович прямо от Введенского в университет на экзамен по всеобщей истории у Куторги. Предложение Введенского несказанно обрадовало его: снова открывалась теперь возможность удержаться в Петербурге и не возобновлять хлопот о месте в Саратове. Он с нетерпением ждал экзамена — что-то скажет Мусин-Пушкин.
«Если не скажет ничего, значит, я совершенно свободен, потому что Молоствов должен же уехать и, стало быть, с Мусиным не виделся, и, следовательно, не должно иметь твердой надежды, на это место. Если же скажет, что Молоствов обещал ему дать мне это место, тогда, конечно, уже нечего мне делать, — можно сказать, что получил его».
Так, положась на судьбу, первым и вышел отвечать Куторге и с удивлением заметил, что Мусина-Пушкина на экзамене нет.
Отвечал сначала свободно, даже отклонялся несколько в сторону и пошутил над собой, после того как допустил незначительный промах, характеризуя работы Нибура и Вольфа.
Кончив ответ, тотчас ушел из университета, спеша в почтамт и в Штаб военно-учебных заведений. В почтамте получил письмо из Саратова, растрогавшее его до глубины души, и с письмом — деньги, чтобы взял место в почтовой карете и чтобы заказал себе штатское платье: фрак, жилет и брюки.
Письмо растрогало его тем, что родители, взвесив и обдумав все, угадывая его тайное желание, давали окончательное позволение остаться в Петербурге и только просили, если представится возможность, приехать домой по видаться после экзаменов.
С чувством простой и спокойной радости он несколько раз поцеловал письмо, когда шел из почтамта в Штаб. Там он подал прошение:
«В Штаб военно-учебных заведений.
Покорнейшее прошение
Желая занять место учителя русской словесности при одном из военно-учебных заведений, подведомственных Штабу, покорнейше прошу Штаб назначить мне тему и время для чтения лекции».
Просьба была составлена по форме, но в Штабе он узнал, что прошения будут принимать только в августе.
Это все равно, сказали ему, ничему не помешает: места до тех пор не будут заняты, потому что некому будет отдать их. На место учителя русской словесности в Дворянском полку он, пожалуй, может рассчитывать...
Мысли его были уже далеки от университетских и служебных дел. Глубоко и по-настоящему его волновало совсем иное. Живая, горячая вера в будущее и крепнувшая золя к действию все более и более сливались воедино. В нем созревали широкие замыслы, начинала бить ключом надежда на неизбежное и близкое пробуждение закабаленного, обманутого народа...
Вериги векового рабства не спадут сами собой — их надо сбросить. Право на свободное и разумное развитие не явится само собой — его надо отвоевать.
Вот почему в тех случаях, когда ему доводилось говорить на эти темы с людьми из народа, он старался внушить им мысль, что добро они ничего не получат, что должно добиваться силой...
В таком именно духе тол ковал он с крестьянином, на шедшим наконечник ножен его шпаги; с солдатом, переезжавшим с ним в одной лодке через Неву; с извозчиком, который вез его однажды поздним февральским вечером 1850 года на Петербургскую сторону, к Иринарху Ивановичу...
Его заветные желания и надежды личного свойства все теснее и неразрывнее сливались с мыслями о благе народа и родины. Размышляя тогда о своем ближайшем будущем, он уже угадывал в общих чертах, как оно сложится после университета и поездки в Саратов.

Поездки в Саратов
«Пройдет несколько лет, и я сделаюсь журналистом, а потом стану деятелем крайней левой партии», — думал он.
Теперь, в дни выпускных экзаменов, на пороге иной, новой жизни, он еще острее чувствовал, что политика главенствует над всеми его помыслами и интересами, что она становится в самом центре его внутреннего мира:
В толпе врагов, в кругу друзей, Среди воинственного шума У верной памяти моей Одна ты, царственная дума...
Ему захотелось напомнить о себе далекому другу ранней университетской поры — Михайлову.
«Кончаю курс, остаюсь здесь служить или делать что попадется под руки... Скорее всего, достану где-нибудь учительское место. Если нет, принимаюсь писать и пере водить... С самого февраля 1848 года и до настоящей минуты все более и более вовлекаюсь в политику и все тверже делаюсь в ультра-социалистическом образе мыслей».
Теперь он уже бесповоротно укрепился в своем революционном мировоззрении. Отвращение к крепостническим порядкам, к социальному неравенству, все более усиливавшиеся революционные настроения привели его постепенно к убеждению в необходимости способствовать всеми силами и всеми средствами подготовке переворота в России. На ряду с сочувствием социально-утопическим теориям у молодого Чернышевского выкристаллизовалось понимание важной роли борьбы классов как движущей силы истории. В понимании этого, как и в готовности к действию, уже и тог да сказывалось его огромное преимущество над теми, кто не шел дальше отвлеченных мечтаний о грядущем золотом веке.
Замечательно, что уже тогда возникал у него план устройства тайного печатного станка, на котором он будет печатать — придет время — призывы к восстанию крестьян, чтобы пробудить народ, дать широкую опору движению возмущенной массы. Он понимал, что осуществление этих планов не так близко. Это будет тогда, когда он поселится в собственной квартире, когда будет свободно располагать деньгами. Но он уже ощущал в себе и сейчас силу решиться на это и не пожалеть, если даже придется погибнуть за это дело...
В мае 1850 года он записал в дневнике, что чувствует себя по отношению к самодержавию так, «как чувствует себя заговорщик, как чувствует себя генерал в отношении к неприятельскому генералу, с которым должен вступить завтра в бой...»
Университетская пора его жизни окончилась... Он стал собираться в Саратов, чтобы повидаться с родными. Четыре года назад при поступлении в университет его радовало, что вот он облачится в студенческую форму, а теперь он чувствовал облегчение, расставаясь с нею, меняя ее на штатское платье и с удовольствием рассматривая свои покупки — пальто, манишку, галстук, перчатки и фуражку.
15 июля утром он выехал с дилижансом, отправлявшимся из Петербурга в Москву; далее предстояло путешествие до Саратова на перекладных.
Двухдневная остановка в Москве позволила ему навестить семью Клиентовых, в доме которых Чернышевские останавливались в 1846 году по пути из Саратова в Петербург. У него осталось тогда самое отрадное впечатление от знакомства с Александрой Григорьевной. Теперь, неожиданно для себя, он узнал, что она была связана в юности узами тесной дружбы с женой Герцена, Натальей Александровной. Заговорили они об этом случайно, когда он увидел на столе у Александры Григорьевны роман «Кто виноват?», подаренный ей женой автора.
— Вы знаете его сочинения? — спросила Чернышевского обладательница книги.
— Как же не знать! — ответил он с энтузиазмом — Я его так уважаю, как никого другого из русских, и нет вещи, которую я не был бы готов сделать для него...
Александра Григорьевна показала ему письма своей подруги детства с приписками автора «Кто виноват?». Перебирая письма, она заметила:
— Я хотела показать вам, что она достойна его.
— Помилуйте, Александра Григорьевна, — отвечал он, — для того чтобы быть в этом уверену, довольно было знать, что она ваш друг...
Чувство дружбы и сострадания к Александре Григорьевне с новой силой пробудилось тогда в душе Чернышевского и, вспоминая о своем прежнем намерении именно ей посвятить свой первый литературный опыт, он начал по приезде в Саратов писать о ней повесть, озаглавленную им «Отрезанный ломоть».
Название возникло из жизни. Это образное определение унизительного положения женщины, которую родителям удалось пристроить замуж, Чернышевский запомнил по очень давним своим разговорам с Лободовским. В этом уподоблении, как в капле воды, отразилось все уродство социальных условий, обрекавших тогда женщин на жалкую роль чуть ли не вещи, сбываемой с рук. После первой встречи с Александрой Григорьевной Чернышевский в Петербурге нередко вспоминал о ней.
Говоря однажды с Лободовским о его браке, Николай Гаврилович рассказал ему о тяжелой участи Александры Григорьевны, с которой так дурно обходится ее отец.
«И с Надеждой Егоровной, умрете вы, то же будет, — заметил он, — взять к себе возьмут, потому что не взять неприлично, но принуждена будет идти в служанки...»
«Да, — согласился Лободовский, — тесть так и говорит про нее — отрезанный ломоть...»
Когда Чернышевский был влюблен в Надежду Егоровну и думал, что чахотка может внезапно оборвать жизнь его друга Лободовского, он готов был, если бы понадобилось, на фиктивный брак с нею, чтобы только дать ей возможность не возвращаться под опеку и власть отца, считавшего ее «отрезанным ломтем».
И вот теперь — Александра Григорьевна... Это уже не чета жене Лободовского. Уровень ее развития был неизмеримо выше. Он говорил с нею о Герцене, о русской литературе, о религии, о новой философии. И она без труда понимала его.
«Я говорил постоянно с энтузиазмом к ней, — отмечает он в дневнике и спрашивает себя: — Что возбуждало этот энтузиазм? Конечно, главным образом ее несчастная участь, которую хочу описать теперь в повести.
Ты не должна любить другого, Нет, не должна; Ты мертвецу святыней слова Обручена...
Вот что. Это доходило до того, что я готов был жениться сам на ней, лишь бы избавить ее от этого положения».
Расставаясь с нею, он сказал:
— Конечно, я, может быть, никогда не буду иметь случая доказать на деле то, что я говорю вам, Александра Григорьевна, но вы всегда можете требовать от меня всего — я все готов для вас сделать; я не знаю, почему это, но ни к кому никогда не чувствовал я такого сильного расположения, как к вам.
Но, видимо, не суждено было подруге детства Наталии Герцен соединить свою судьбу с судьбой будущего автора «Что делать?», хотя на возвратном пути из Саратова в Петербург он опять остановился в Москве, виделся с нею несколько раз, часами бродил с нею по Никитскому и Пречистенскому бульварам и снова сказал ей на прощанье, что посвятит ей первое, что напечатает...
* * *
Еще по пути к родному городу Чернышевский думал о том, что хорошо было бы избегнуть вовсе разговоров с отцом о «деликатных» предметах: о религии, о самодержавии, о революционных началах и прочем. Но ему даже не пришлось прибегать ни к каким ухищрениям — отец с присущим ему тактом не стал ни о чем расспрашивать сына и не касался острых тем. Заметив это, Чернышевский сам осторожно затрагивал иногда запретные темы и убедился в том, что мог высказаться довольно свободно, ибо Гавриил Иванович был, по-видимому, не слишком сведущ в этих вопросах и не мог ясно уразуметь всей глубины коренных изменений в мировоззрении сына.
Но вне дома, среди знакомых, среди товарищей по семинарии, Николай Гаврилович держался откровеннее и смелее и с увлечением развивал свои заветные мысли.
Более месяца прожил Николай Гаврилович на родине в этот приезд. Обратно возвращался он не один — вместе с ним ехал Александр Пыпин, который пробыл год в Казанском университете и решил теперь перейти в Петербургский. Путь их лежал через Казань, где Пыпину надо было выправить документ о переводе из одного университета в другой.
Ехали на простой телеге, меняя лошадей на больших станциях. Не взирая на решительные возражения сына, Евгения Егоровна уложила в телегу обильные запасы сластей, грецких орехов и банок с вареньем... Она была грустна, расставаясь со своим любимцем. Усевшись рядом с ним на телеге, она сказала:
— Вот как прекрасно, так бы и поехала с вами до Москвы. Ничего, решительно ничего! Прекрасно и спокойно...
Но в словах этих звучала такая грусть и сожаление, что сыну стало бесконечно жаль ее, и он сидел в каком-то онемении..
Расставались они со слезами на глазах. Когда фигура матери исчезла из виду, им овладели угрызения совести. В душе он корил себя за то, что оставляет мать и отца в Саратове в одиночестве. Ему было так грустно в эту мину ту, что, казалось, он готов был махнуть на все рукой и тотчас возвратиться назад.
Но дорогой печальные мысли рассеялись, и он решил, что будет хлопотать в угоду матери и отцу о назначении учителем в саратовскую гимназию, хотя Введенский всегда настойчиво уговаривал его не покидать Петербурга.
В Нижнем-Новгороде они остановились у Михайлова, который был чрезвычайно обрадован встречей с Чернышевским после долгой разлуки.
Николай Гаврилович, которому хотелось как можно скорее вытянуть друга из провинциальной тины, стал развивать перед ним проект переезда в Петербург с тем, чтобы тот, выдержав испытательные экзамены, получил с по мощью Введенского место преподавателя в военно-учебных заведениях.
В это свидание Михайлов прочел Чернышевскому и Пыпину свои художественные произведения — комедии и отрывки из повести «Адам Адамыч», которая вскоре после того была напечатана и принесла ему известность, что позволило Михайлову снова перебраться в Петербург.
До Москвы двоюродные братья добрались в почтовой карете и, остановившись здесь на несколько дней, позаботились о приобретении билетов до Петербурга на «наружных» местах в дилижансе. Таких мест в соседстве с кондуктором, открытых и потому наиболее дешевых, было два.
В пути Николай Гаврилович рассказывал Александру Пыпину об университете, о своих друзьях, о профессорах, читал ему наизусть стихи Мицкевича, отрывки из чешской поэмы «Любушин суд», тут же переводя и объясняя их. Рассказы прерывались шутками и шалостями.
Так длилось это путешествие двое суток с остановками на обед или для перемены лошадей. Они проезжали мимо сел, деревень, городов, лежащих на пути от Москвы к Петербургу.
11 августа Чернышевский и Пыпин прибыли в столицу и поселились у Терсинских. Уже на следующий день Николай Гаврилович, повидавшись с Введенским, принялся деятельно хлопотать об устройстве на место учителя в кадетском корпусе.
Занятый этими хлопотами, Чернышевский забыл и думать о том, что в недрах канцелярии округа лежит его заявление о предоставлении места в саратовской гимназии. Казалось, все устроилось само собой так, что в Саратов он не вернется, а останется в Петербурге, но вот в один из сентябрьских дней, когда он зашел за книгами в университетскую библиотеку, его увидел инспектор Фицтум и сказал:
— Где вы квартируете?.. Приходите в канцелярию попечителя завтра.
Чернышевский подумал, что дело касается перевода Александра Пыпина из Казанского университета, и был крайне изумлен, услышав от Фицтума:
— Вы просите себе места в Саратове? В канцелярии получена бумага, что место имеется.
Известие это вовсе не обрадовало Чернышевского. Желая, вероятно, усложнить и затянуть дело, он заявил попечителю, что не имеет средств для переезда в Саратов и, кроме того, поставил непременным условием своего пере хода на службу туда освобождение от вторичного экзамена, надеясь, что попечитель не согласится на выдвинутые условия.
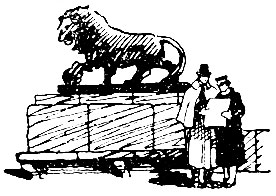
© Злыгостев Алексей Сергеевич, 2013-2018
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://n-g-chernyshevsky.ru/ "N-G-Chernyshevsky.ru: Николай Гаврилович Чернышевский"
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://n-g-chernyshevsky.ru/ "N-G-Chernyshevsky.ru: Николай Гаврилович Чернышевский"