

|
Университетская пора

Университетская пора
На другой день после отъезда Евгении Егоровны Чернышевский присутствовал на торжественном акте в университете и слушал наставление, с которым обратился к студентам рек тор Плетнев.
Затем начались занятия. Чернышевский был целиком поглощен университетскими делами, посещал лекции, постепенно знакомился с товарищами, привыкал к новым порядкам.
Со свойственной ему пунктуальностью он уже высчитал расстояние от дома до университета: шестнадцать минут ходьбы, девятьсот шестьдесят его двойных шагов, одна верста триста сажен, - немногим больше, чем в Саратове от дома до семинарии. Однако и здесь, как и в Саратове, не редко, задумавшись о чем-нибудь, он спохватывался, заметив, что уже давно прошел мимо ворот своего дома.
Однообразный ежедневный маршрут - из дома в университет, из университета домой - примелькался скоро до мельчайших подробностей.
«Если я выхожу из дому, то иду все по той же вечной Гороховой улице или Невскому, мимо Адмиралтейства в университет и потому не вижу ничего нового, кроме картинок, беспрестанно сменяющихся, которыми увешаны стены дома, где магазин гравюр и литографий Дациаро».
С такой же пунктуальностью определил он и свои скромный бюджет, установив, сколько потребуется ему на стол, на свечи, на перья, даже на ваксу, определил несложный распорядок дня, чтобы жить по расписанию, по часам и минутам...
Приподнятое, радостное состояние не оставляло его, хотя восторг по поводу того, что он в университете, довольно скоро сменился трезвой оценкой действительного положения вещей.
Уже через несколько дней после начала занятий он пишет отцу:
«Все это, как видите, нечто вроде пустяков. Я не знаю, как вам писать это. Вы сейчас и станете опасаться, что «если считает пустяками, то станет пренебрегать, опускать лекции». Но разве я не говорил того же о семинарских классах и опустил ли хоть один? Дружба дружбой, а служба службой; думай, как хочешь, а сиди и слушай... Та же история отчасти, что и в Саратове. Отчасти, слава богу, нет».
И он сидел и слушал, хотя уже твердо решил, что на стоящее средство образования не столько лекции, сколько - книги.
* * *
Ничто так не облагораживает юность, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес, говорит Герцен. Широкие социально-этические проблемы общего характера волновали Чернышевского и до поступления в университет. Еще будучи семинаристом, нередко проводил он время в разговорах на общественные темы с молодыми людьми из помещичьего круга, приезжавшими из столицы на каникулы в Саратов. Он зачитывался тогда Пушкиным, Жуковским, Шиллером, и при этом его увлекали не только поэтические картины, но и возвышенные социальные идеи.
В Петербурге это умонастроение еще более укрепилось и развилось. В некоторых письмах к двоюродному брату, написанных по-латыни, Чернышевский касался острых политических вопросов - например, вопроса о крепостном праве. Пыпин учился тогда в первых классах гимназии. Чернышевскому, еще не успевшему завязать дружеские отношения среди однокурсников в университете, нужны были собеседники, перед которыми он развивал бы волновавшие его темы. Родители не могли быть такими собеседниками. И вот он обращается к мальчику, пониманию которого эти темы едва ли были по-настоящему тогда доступны; обращается к Любови Котляревской, которую, вероятно, вообще не интересовали общественные вопросы.
Вскоре по приезде в столицу Чернышевский с увлечением прочитал новый роман французского писателя Эжена Сю «Мартин Найденыш», и тотчас поспешил поделиться с двоюродной сестрой своими размышлениями об этом произведении.
«Мартин Найденыш» заинтересовал его особенно тем, что автор изображал бедственное состояние крестьянства во Франции и пытался указать средства к устранению насилия и гнета над низшими классами. Размышляя попутно и о «Парижских тайнах» того же автора, Чернышевский задается вопросом о возможности нравственного возрождения людей, искалеченных социальными условиями. Ведь по большей части злодей и негодяй не родится злодеем и негодяем, а делается им от недостатка нравственного воспитания и от бедности.
Он уже отчетливо видит, что в мире царит несправедливость, что человечество погрязло в пороках, что оно страдает и мучается не по своей вине, а в силу каких-то обстоятельств, с которыми необходимо бороться.
Совсем не по возрасту были серьезны тогда запросы Чернышевского. Читая проникнутую патриотическим чувством поэму А. Майкова «Две судьбы», он стремился вместе с поэтом понять причины умственной закоснелости тогдашнего общества.
И не зажгла наука в вас собой Сознания и доблестей гражданства.
Строки эти вызывают у него пылкие, пророческие мыс ли о своем призвании, о будущем родины. Взволнованный чтением «Двух судеб», он пишет двоюродному брату:
«Решимся твердо, всею силою души, содействовать тому, чтобы прекратилась эта эпоха, в которую наука была чуждою жизни духовной нашей... Пусть и Россия внесет то, что должна внести в жизнь духовную мира... выступит мощно, самобытно и спасительно для человечества и на другом великом поприще жизни — науке... И да совершится через нас хоть частию это великое событие!
Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества — что может быть выше и вожделеннее этого?»
Такова была уже в ту пору сила патриотизма Чернышевского. Ведь даже своего семинарского друга Михаила Левицкого он считал человеком, способным в иных условиях стать гордостью России. Не столь уж важно, преувеличено ли было это мнение, - гораздо важнее то, что оно обнаруживало желание юноши видеть и себя, и своих друзей людьми, поддерживающими честь родины.
С таким ощущением, с такими мыслями вступил Чернышевский в университет, и ему казалось, что он встретит здесь немало достойных людей. Он радовался успеху каждого студента, даже если тот не был знаком ему лично.
Когда в «Отечественных записках» появилась похвальная статья о сборнике стихотворений А. Плещеева, учившегося в Петербургском университете, Чернышевский поспешил сообщить об этом двоюродной сестре в Саратов, слов но бы успех Плещеева коснулся и его самого.
И точно так же радовался он, когда знакомый студент Филиппов, сотрудничавший в музыкальном журнале, выпустил польку своего сочинения и подарил ее Раеву.
«Это также очень приятно, - писал он Любеньке, - знаешь дух сословия! Говорят, что он пишет хорошо».
И вспомнилось тут Чернышевскому, что в детстве и он тоже умел играть на фортепиано, да забросил потом.
«Вот сейчас и слышу: а ты так вот не хотел: и знал, да забыл!»
В это время начали у него складываться очень близкие отношения с вольнослушателем университета Михаилом Ларионовичем...Михайловым, впоследствии видных поэтов и революционером. Познакомились они на первой лекции и сошлись очень скоро, но более тесному сближению сначала несколько препятствовало заметное различие их характеров.
Чернышевский был застенчив, сдержан в проявлении чувств, а Михайлов открыто эмоционален, изменчив в на строениях. Он легко переходил от веселости к задумчивости, от грусти к оживлению. Различие сказывалось и во внешнем поведении. Чернышевский отличался простотой манер. Внешней форме он не придавал значения и мог казаться иной раз неловким, угловатым. В манерах и движениях Михайлова, напротив, была даже некоторая щеголеватость.
Михайлов получил хорошее домашнее образование, но экзаменов в университет не выдержал, потому что плохо подготовился к ним, всецело поглощенный литературной Деятельностью. Ему пришлось поступить в университет вольнослушателем.
На первой же лекции Михайлов обратил внимание на близорукого студента в старенькой форменной куртке.
- Вы, вероятно, второгодник? - обратился Михайлов к студенту.
- Нет, а вы, должно быть, судите по сюртуку?
- Да.
- Так он с чужого плеча. Я купил его на толкучке, - отвечал Чернышевский.

Чернышевский и студенты
И между ними завязался разговор.
Под впечатлением знакомства с Михайловым Николаи Гаврилович писал отцу в Саратов, что он не ожидал встретить среди товарищей таких замечательных по своим по знаниям и талантам людей.
В семинарии Чернышевский привык быть преимущественно полезным для других. Теперь дружба могла принести пользу и ему. В лице Михайлова он встретил редкого знатока мировой литературы. Недаром его называли ходячей энциклопедией. Кроме восточных, древнегреческих и латинских поэтов, он знал всех видных английских, немецких, французских писателей. Он изведал уже первые, приятно кружащие голову успехи на литературном поприще. Он печатал в журнале «Иллюстрация» свои оригинальные и переводные стихотворения, статьи, заметки. И несомненно, что уже в раннюю пору знакомства Чернышевского с Михайлевым их сближала присущая обоим ненависть к угнетателям родного народа, общность социальных взглядов.
Революционные убеждения Михайлова складывались, вероятно, под непосредственным впечатлением рассказов в семье о трагической участи его деда Михаила Максимовича, который был крепостным симбирской и оренбургской помещицы Надежды Ивановны Куроедовой, изображенной в «Семейной хронике» С. Т. Аксакова под именем Прасковьи Ивановны Багровой.
После смерти Куроедовой Михаил Максимович был от пущен на волю, но вольная не была соответствующим об разом оформлена. Воспользовавшись этим, наследники Куроедовой снова его закрепостили. Михаил Максимович протестовал; тогда его заключили в острог, судили и засек ли до смерти за неповиновение помещичьей власти. Отец Михайлова, управлявший под конец жизни соляными копями в Оренбургской губернии, умирая, говорил сыну, чтоб он помнил историю своего деда, никогда не делался барином и стоял за крестьян.
Чернышевский сразу понял, что Михайлова ждет большое будущее, что из него выйдет человек замечательный.
Душевная мягкость Михайлова и его откровенность привлекали к нему Чернышевского, он чувствовал себя в его обществе непринужденно и просто.
Они стали бывать друг у друга чуть ли не ежедневно, вместе читали «Отечественные записки», «Современник», толковали по целым вечерам о литературе, о политике, об университете.
На филологическом отделении первокурсников было сравнительно немного. Среди небольшого числа их человек восемь - десять вчерашние семинаристы. Еще в 30-х годах в университет начался приток семинаристов и выходцев из чиновничьей и мещанской среды.
Правда, вскоре же после революционных событий 1848 года на Западе правительство Николая I приняло предупредительные меры, стараясь искусственно приостановить наплыв разночинцев в учебные заведения. В секрет ном циркуляре министра просвещения Уварова было указано, что «при возрастающем повсюду стремлении к образованию наступило время пещись о том, чтобы чрезмерным этим стремлением не поколебать некоторым образом порядок гражданских сословий, возбуждая в юных умах порыв к приобретению роскошных знаний».
В дальнейшем число вновь принимаемых в университет студентов было сведено к минимуму. В 1849 году на первый курс филологического отделения Петербургского университета были приняты лишь два человека.
Эта полоса реакции и застоя длилась до самой смерти Николая I.
Вступив в университет, Чернышевский вскоре увидел, что и среди профессоров встречаются лица из социально близкой ему среды. Он чувствовал особую симпатию к таким профессорам, понимая, как трудно давался им каждый шаг, прежде чем они сумели добиться кафедры. Это пони мание сказалось, например, даже в споре с отцом о важности изучения французского языка.
Гавриилу Ивановичу очень хотелось, чтобы сын в совершенстве овладел языком светских салонов. Сын возражал, доказывая, что не обязателен этот лоск, что неумение болтать по-французски теперь уже не говорит о плохом воспитании. Важно для дела знать язык книжно, если нет возможности добиться настоящего произношения. Он берет в пример профессоров Никитенко, Устрялова, Неволина. Они не говорят ни на одном из новых языков. Где им было смолоду выучиться говорить? Никитенко и Устрялов - вольноотпущенники Шереметева, а Неволин...
«Ведь вы знаете, кто он?.. - спрашивал сын, имея в виду духовное происхождение Неволина. - Органов загрубелых уже не переломить». И он считал, что лучше вовсе не говорить на иностранном языке, чем смешить своим плохим произношением.
Вчерашние вольноотпущенники-профессора постепенно утрачивали дух некоторого свободомыслия и протеста и мало-помалу примирялись с существующим порядком вещей. Они не были, правда, такими ревностными слугами самодержавия, как попечитель Петербургского учебного округа граф Мусин-Пушкин. Их могли даже возмущать какие-нибудь крайности в правительственных мерах, однако они не шли дальше выражения тайного недовольства под маской внешней покорности. Испытывая на себе постоянный гнет официальной идеологии, они не решались, не смели прямо идти против нее, стараясь лавировать, и положение их поэтому было жалким.
Это остро чувствовала разночинная молодежь, при шедшая к ним учиться. Вот почему Чернышевский так быстро разочаровался и перестал ждать чудес от университета. Вот почему Михайлов, проучившись год с лишним, предпочел отправиться в Нижний-Новгород служиться их общий приятель - Лободовский, пешком пришедший из Курска в Петербург, чтобы поступить в университет, - также очень скоро осознал, что здесь учатся ради дипломов, а не ради подлинного просвещения. Понял это и Чернышевский: «... живешь здесь без существенной пользы, так для формальной только. Странно, пользы нет, а нельзя хоть и не быть, например, в университете...»
Другого выхода не было. Нужно учиться хотя бы и ради диплома, чтобы не пропасть, не раствориться потом в бесчисленной массе чиновников. Только обучение в столице и диплом открывали какую-то перспективу в будущем. В противном случае жизнь оттесняла, отбрасывала людей его круга на задний план.
Отцу своему Чернышевский писал:
«Такой уж теперь порядок вещей, что для того, чтобы быть чем-нибудь (о выскочках не говорим: ведь это исключения), надобно учиться в высших заведениях и служить в столице: без этих двух условий так и останешься ничем, как был».
Дух застоя и реакции давал чувствовать себя на каждом шагу. Казарма и канцелярия, по выражению Герцена, сделались опорой политической науки Николая I. Пружинами этой «сильной» власти была слепая, лишенная здраво го смысла дисциплина в соединении с мертвым формализмом чиновников. Квартальные, говорил Герцен, занимали и университетские кафедры.
Деятельность каждого из профессоров была стеснена всевозможными предписаниями, устными и письменными внушениями и пожеланиями. Неудивительно, что у питомцев университета создавалось впечатление, что на филологическом отделении им приходится только даром терять время. Рутина и формализм, пустословие и буквоедство...
Студенты между собой часто подшучивали над семидесятилетним профессором греческой словесности Грефе, называя его светилом эллинской премудрости. Грефе и знать ничего не хотел, кроме этимологии греческого языка.
«Без неправильных глаголов ему, наверно, и жизнь была бы не в жизнь», - говорили студенты, которых он без конца мучил вопросами: как? почему? а это как?..
Грефе читал свои лекции и экзаменовал на латинском языке. Был он, в сущности, добр, но вспыльчив до крайности. Рассердившись, бросал книгу на пол, топал ногами, крича: «Abi ad malam rem!» («Поди к черту!») Впрочем, удачный ответ заставлял его сразу смягчаться. Он в таких случаях радостно смеялся, потирал руки и говорил «Contenlus sum!» («Я доволен!»)... Знания учеников проверял он пытливо, пуская в ход «римские сарказмы».
«Да, склонения ты знаешь, но, может быть, на этом и кончаются твои познания?» - язвительно говорил Грефе по-латыни экзаменующемуся.
«А ты спроси!» — отвечал ему по-латыни последний...
Преподавание словесности и истории русской литера туры не могло удовлетворить тех студентов, которые умели мыслить самостоятельно. Кафедру словесности занимал Никитенко, истории литературы - Плетнев, в прошлом друг Пушкина. Оба профессора были довольно известными тогда литераторами, но давно уже остановились в своем развитии.
Студентов удивляло, почему Плетнев, прежде вы сказывавший иногда в своих журнальных статьях дельные и верные мысли, предавался на лекциях усыпительной болтовне. Никитенко же старательно избегал касаться острых вопросов, затронутых в том или ином произведении, останавливаясь главным образом на его внешнем, формальном разборе.
Никитенко также избегал освещать идейную направленность разбираемого произведения и чаще всего отделывался туманными рассуждениями о высоких отвлеченных материях.
Чернышевский очень скоро по достоинству оценил либерализм этих профессоров, робкую половинчатость и не определенность их взглядов. Мог ли он глубоко, по-настоящему уважать профессоров, неукоснительно подчинявшихся требованиям казенной идеологии?..
Жизнь Чернышевского с виду текла очень однообразно. Он ходил на лекции, в библиотеки, встречался с товарища ми, спорил, беседовал с ними. Так проходили дни, недели, месяцы. Он регулярно писал письма домашним. Чаще всего проводил время дома за книгами. И когда не хотелось ему отрываться от чтения, он говорил Раеву: «Лень мне что-то нынче выходить со двора».
Случится ему достать намеченную книгу - и настроение становится радостным. Наоборот, не удастся достать нужную - он готов впасть в хандру. От посещения театров удерживался, боясь, что театр отвлечет его от занятий. Родителей уверял, что терпеть не может театра. Вознамерился было посещать музыкальные вечера по воскресеньям в университете, но раздумал: нужно было заплатить за зиму три рубля серебром. Лучше потратить их на книги.
Университетские танцевальные вечера показались ему просто смешными - и за кавалеров и за дам выступали студенты. Студенческие пирушки проходили без него. Вина он в рот не брал - нестерпимо скучными считал подобные развлечения. Ходил иногда в гости к землякам, знакомым и друзьям своего отца.
В Петербурге было немало уроженцев Саратова. Иные успели добиться больших чинов и жили на широкую ногу. Родители всячески внушали сыну, что необходимо поддерживать полезные знакомства. Порой он готов был исполнить это их желание, но мешала присущая ему щепетильность. Мало-мальски неделикатное проявление покровительства с чьей бы то ни было стороны непременно бы за дело его. Да и ненужным считал заводить знакомых, которым следовало наносить визиты, сидеть у них молча или толковать на безразличные темы.
Внешне жизнь текла без событий.
«Но ведь есть жизнь другая, жизнь внутренняя, душевная. Это-то и есть истинная жизнь, — писал он Александру Пыпину. - В ком есть она, тот занимается внешнею жизнью и заботится о ней только настолько и постольку, чтобы она не мешала внутренней».
Вот почему с таким стоическим спокойствием переносил Чернышевский лишения и неурядицы в быту. А их было немало. Отсутствие сколько-нибудь свободных денег давало себя чувствовать на каждом шагу. Ему во всем приходилось ограничивать себя, выкраивать рубли и копейки, чтобы сводить концы с концами. К этим грошовым заботам примешивалось постоянно мучившее сознание, что родителям недешево обходится его жизнь в Петербурге. Поэтому каждый мало-мальски значительный расход огорчал его.
Надвигалась зима. Требовалась экипировка. Он готов был обойтись без шубы - благо до университета недалеко, а в баню можно ходить и в тулупе. Но как обойтись без парадного мундира и теплой шинели? Он намеревался ку пить подержанный мундир за полцены у какого-то сенаторского сынка, но, увы, воротник на этом мундире оказался бальный, то есть был вышит не просто гладким золотом, а с блестками. Пришлось заказывать мундир. «О, как дорого здесь жить! Как все здесь дорого! Ужас!»
Даже хлеб в три раза дороже, чем в Саратове! Театр, извозчики - все это прихоти, о которых нечего и думать. Он будет пить чай только по воскресеньям или вовсе не будет пить его, чтобы свести расходы к минимуму.
На первый взгляд это беспокойство кажется просто не понятным. Ведь он единственный сын. Но семью Чернышевских нельзя отделять от многодетной семьи Пыпиных. Все тяготы жизни ложились на обе семьи равномерно. К тому же близилось время, когда надо было устраивать в университет Сашу Пыпина, а это сопряжено было с новыми расходами. Поэтому сначала Пыпины думали даже отдать его на казенное содержание. Однако Николай Гаврилович решительно воспротивился этому и горячо упрашивал отца и мать удержать Пыпиных от этого шага.
«Папенька, - писал он. - Вы отчасти видели по опыту, каков казенный хлеб?.. Но поверьте, что бурса и грязные ее комнаты и дурная провонялая пища — рай в сравнении с светскими казенноучебными заведениями!.. Сделайте милость, не советуйте отдавать Сашу: через это можно погубить всю его будущность, и карьеру, и сердце его... Вы хотели же содержать меня здесь четыре года; рассчитывай те теперь, что Вы будете содержать только год, если не меньше, а остальное употребите на Сашеньку!»
Родители успокаивали Чернышевского. Не доверяя им, он старался у тетушки выведать, как отзывается его пребывание в столице на бюджете отца. Он с нетерпением ждет, когда же наконец будет самостоятельно зарабатывать, хотя бы уроками.
Он убежден в том, что блага жизни сами по себе вовсе не должны быть предметом забот и желаний, что это толь ко условие, только средство, без которого немыслима истинная, то есть внутренняя жизнь. Лишь бы хлопоты и заботы не мешали настоящей жизни. Но они-то не оставляли его в покое ни на минуту. И потому так часто приходилось писать своим о «материальностях», без конца делить и умно жать, складывать и вычитать какие-то цифры, как будто и впрямь эти рубли и копейки могли занимать его воображение.
Отцу и матери представлялось, что замечательные способности сына сразу же обратят на него внимание университетского начальства. Беспокойное честолюбие матери прорывалось в прямых вопросах: кто из профессоров отличил сына среди остальных студентов? И хотя Чернышевский отвечал, что Фишер и Касторский выказали свое рас положение к нему, однако не это, в сущности, интересовало его теперь.
Сам он, правда, намеревался в дальнейшем пойти по ученой части, но дух неверия в казенную науку уже коснулся его. Он видит, что в настоящих условиях ничего, кроме вершков, в университете не нахватаешь. Он не на шутку озадачен тем, что «почему-то нашим знаменитостям плохо удаются экзамены» и что они, знаменитости, «не в дружбе с правительством вообще».
Перед ним встают примеры Белинского, Герцена и еще более близкий пример Плещеева, который «вышел в поэты и вышел из университета». Вот и Михайлов собирается покинуть святилище науки. И новый друг Чернышевского, Лободовский, с злобной иронией твердит о пустоте университетского преподавания. Да и сам Чернышевский не скрывает уже от отца, что очень доволен приближением «невских каникул», которые наступят во время ледохода, когда разведут Исаакиевский мост через Неву и занятия поневоле прервутся.
Подробно рассказывая родным о своём житье в Петербурге, Чернышевский обычно не останавливался на том, что касалось его внутренней жизни. Он был уверен, что они не сумеют правильно его понять.
И все-таки иногда в его письмах проскальзывала какая-нибудь еретическая мысль, и тогда отец осторожно выпытывал, кто такие его друзья и смотрит ли начальство за частной жизнью студентов.
Многое из того, что юноша писал о себе родным, сообщалось с явным расчетом усыпить их тревогу, их беспокойные предчувствия. Сперва это еле заметно и касается лишь пустяков. Потом, по мере того как стал окончательно складываться его особый внутренний мир, совершенно чуждый духу его семьи, это несоответствие стало все чаще проскальзывать в письмах. На первых порах оно еще не бросается в глаза, потому что духовная связь с семьей, традиции, общность представлений - все это было изжито Чернышевским вовсе не сразу, а после длительной и трудной внутренней ломки.
В начале своего пребывания в университете Чернышевский был еще тысячами нитей связан с той средой, от которой только что оторвался. Ее идеалы, привычки, обычаи были ему близки и дороги. Только с течением времени стало ему ясно, что те интересы, какими он постепенно проникался в новой обстановке, несовместимы с духовным укладом оставленной среды. И по мере того как зарождался, рос и ширился этот новый круг интересов, усиливалась внутренняя борьба в нем самом, приведшая в конце концов к кризису и решительному разрыву с прежними традициями и представлениями.
А сейчас письма из дому словно бы звали его назад. Иногда он читал их Раеву: кроме Раева, ему не с кем было поговорить о саратовцах, о прежнем житье. Временами он сильно скучал по дому и начинал считать, сколько месяцев и недель осталось до переходных экзаменов в мае будущего года и до летних вакаций, когда можно будет поехать на ро дину. Особенно тоскливо тянулось время в зимние праздники. День его именин, именин матери, рождество, Новый год — они всегда так шумно проходили в кругу семьи, а здесь воспоминания о них только подчеркивали его одиночество...
В начале декабря Чернышевский и Раев перебрались на новую квартиру на Малой Садовой, к пожилой немке-кухмистерше. Чернышевский сам перетащил свои книги - Вергилий, Гораций, Цицерон, вывезенные еще из Саратова, несколько учебников, лексиконы, грамматики, хрестоматии, - греческая, латинская, английская, арабская, персидская, Библия, поэма «Смерть Авеля» на французском языке да еще десяток случайно купленных на Апраксином рынке книг.
В рождественские праздники он никуда не пошел с визитами, а целые дни проводил, занимаясь английским языком, читая книги, взятые из университетской библиотеки. В канун Нового года он остался один в квартире: Раев ушел к знакомым.
На улице была легкая оттепель. Чернышевский долго смотрел из окна, как вереницами тянулись кареты и сани, разрыхляя снег, как поспешно проходили по улице офицеры, чиновники, дамы в салопах с собольими воротниками. Потом уселся за письменный стол и, низко наклонившись над бумагой, принялся писать поздравления родителям, крёстному, латинисту Воскресенскому, Саблукову...
Двенадцатый час застал его за письмами. Он вдруг поднялся и вслух громко стал поздравлять отца и мать с Новым годом, воображая их перед собой. Еще месяц назад в гостях у чиновника-земляка Рождественского он получил неприятное известие, что против отца снова, как и в 1843 году, когда его исключили из консистории, подняли какое-то дело. А третьего дня пришло от отца письмо, в ко тором он сетовал на интриги и тайные «ковы», устрояемые против него.
Чернышевский очень живо представил себе, как огорчен отец в эти дни, слезы обиды за него подступили к горлу, и он в третий раз громко повторил:
- Поздравляю вас с Новым годом, желаю вам провести его благополучно, беспечально и весело... Дай бог, что бы он не принес вам ни одной неприятности и протек бы мирно и счастливо...
Да, вот уже семь с половиной месяцев прошло со времени его отъезда из дому! И уже пятый месяц пошел с тех пор, как он расстался с матерью.
«Как-то теперь у нас? Так же ли всё, как и тогда, как я был дома, или не так? Милая маменька, вы обещались мне ездить по гостям, ездите ли? Милый папенька, возите их...»
В начале нового года из Харькова был переведен в Петербургский университет на кафедру славянских наречий молодой профессор Измаил Иванович Срезневский. Он сразу внес оживление в университетскую атмосферу, читая свой предмет с подъемом и воодушевлением, которые невольно увлекали слушателей.
Еще в Саратове Чернышевский познакомился с ученым-археологом Терещенко, когда тот приезжал на Волгу для археологических исследований. Необычайные дарования юноши обратили на себя внимание ученого. Узнав о том, что Николай Гаврилович переехал в Петербург, он пригласил его к себе. Терещенко горячо одобрил намерение Чернышевского пойти по ученой части и советовал ему серьезно заняться изучением славянских наречий: языка ми польским, сербским и чешским.
— Перед славянской филологией, - говорил он, - открывается большая будущность.
Чернышевский соглашался с ним, жалуясь, однако, на то, что нет, в сущности, средств и времени заниматься серьезно любимым предметом, пока не станешь самостоятельным человеком:
- Так уж у нас все устроено. Столько предметов и так мало времени! Толком ничему не научишься.
В своих лекциях Срезневский пользовался богатым запасом наблюдений, вынесенных им из путешествия по славянским странам, где он провел более трех лет. В лет нее время он странствовал пешком по землям Чехии, Сербии, Черногории, изучая быт, обычаи и народное творчество этих стран; зимами жил в городах, работая в библиотеках и систематизируя собранный материал.
Инициативный, преданный своей науке, Срезневский сумел вовлечь студентов в самостоятельную работу над летописями и другими памятниками старины, изучение которых считал необходимым условием основательного знакомства с историей развития отечественного языка. Чернышевский был одним из первых, кто сразу же с необычайным рвением отдался этому делу. Он принялся за составление словаря летописи Нестора - кропотливую механическую работу на долгие месяцы.
Случалось, что он просиживал за выписыванием слов на карточки по восьми, по десяти, иногда даже по двенадцати часов в сутки. Трудно себе представить что-ни будь более несовместимое, чем живая, пытливая мысль молодого Чернышевского и мертвое буквоедство, о котором так насмешливо отзывался он сам спустя двадцать пять лет.
«Так велика была моя славянская ученость, что печатных книг уже недоставало для ее насыщения, дошло дело до пожирания пергамента... - писал Чернышевский сыну в 1877 году, - вообрази, в нем (в словаре. - Н. Б.) были перечислены все места летописи, в которых попадается слово «идти», или слово «ехать», или слово «земля», можно верить такой невообразимой глупости? Так этот го было еще мало, друг; было там еще и не то: там были перечислены все места, где употреблено слово «ты», слово «я» и даже - о ужас! - слово «и». А слово «и» попадается почти на всякой строке... и пошел воин, и пришел воин, и звали его Иван, и пришел другой воин, и звали его Павел, и пришли Степан, и Петр, и Сидор и... и... и... и... И все эти «и» были у меня собраны и перечислены с такою старательностью, как жемчужины по ореху величиною заботливо нанизываются на нитку, чтобы не затерялась ни одна из таких драгоценных редкостей. Это была славянская филология».
По странной иронии судьбы, «партизан социалистов и коммунистов» (как называл себя в последствии в дневнике 1849 года Чернышевский) должен был убивать время на черновую филологическую работу. Он охотно выполнял ее, потому что специальный предмет Срезневского был все-таки связан в глазах молодого студента с самостоятельной деятельностью. И, кроме того, не только при первом знакомстве, Срезневским в 1847 году. но даже и несколькими года ми позже Чернышевский еще не мог с уверенностью сказать, что его будущее связано с литературой, с публицистикой. Он предполагал получить в дальнейшем ученую степень, а в таком случае надо было заранее наметить предмет, по которому он будет писать диссертацию. А тут как раз Срезневский сразу оценил систематичность, добросовестнейшую внимательность Чернышевского в работе. Навыки, полученные последним еще в Саратове от Саблукова, сказались теперь. Заслуженное поощрение удваивало энергию Чернышевского. Вот почему он мог так долго и старательно трудиться над словарем.
Однако будь Срезневский только сухим ученым, вряд ли удалось бы ему увлечь Чернышевского в дебри мелкословия. Живой и восприимчивый ум Измаила Ивановича, самостоятельность его мысли и беззаветная преданность науке импонировали юноше.
Но строгость Срезневского как экзаменатора скоро вызвала у студентов резкое недовольство им, которое они едва не перенесли и на Чернышевского, охотно выполнявшего учебные поручения профессора и намеревавшегося под готовить ему сочинения на медаль.

Чернышевский студент
Приближались переходные экзамены. Чернышевскому и хотелось поскорее к родным в Саратов, и уже жаль было разлучаться с товарищами, с книгами, покидать Петербург, с которым он успел свыкнуться. Настроение было такое, что хоть и не ехать... Однако он боялся огорчить этим отца и мать.
После долгих раздумий он решил положиться на их волю и желание и только твердил им в письмах о больших расходах, связанных с возможностью свидеться лишь на короткое время. Родители все же настойчиво звали его на вакации в Саратов.
В конце апреля пошла Нева, был наведен мост, а через несколько дней начались экзамены, тянувшиеся целый месяц.
Экзамены закончились превосходно. Чернышевский получил отличные баллы по всем предметам. Нанеся последние визиты землякам, проживавшим в Петербурге под вечер 7 июня Чернышевский выехал в дилижансе в Москву. Там прожил он трое суток, поджидая денег из дому, подыскивая попутчиков и выправляя подорожную. Попутчиком оказался чиновник, отправлявшийся по казенной надобности в своем экипаже. Путь их лежал через Рязань и Тамбов В 20-х числах июня Николай Гаврилович прибыл в Саратов...
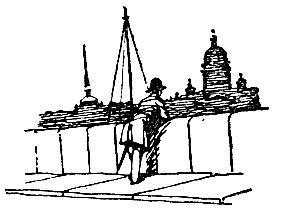
© Злыгостев Алексей Сергеевич, 2013-2018
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://n-g-chernyshevsky.ru/ "N-G-Chernyshevsky.ru: Николай Гаврилович Чернышевский"
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://n-g-chernyshevsky.ru/ "N-G-Chernyshevsky.ru: Николай Гаврилович Чернышевский"