

|
Детские и школьные годы

Детские и школьные годы
Отец Николая Гавриловича происходил из села Чернышева, Чембарского уезда, Пензенской губернии. Он был сыном деревенского дьякона и фамилию свою получил по названию родного села при поступлении в духовное училище.
Он прошел трудную жизненную школу.
«Я сызмальства привык жить в простоте», - говаривал часто Гавриил Иванович.
Еще в детстве лишился он отца. И овдовевшая мать, не имея средств кормить и воспитывать сына, привела его в лаптях к тамбовскому архиерею и, кланяясь в ноги, со слезами на глазах просила не оставить ее, позаботиться об устройстве сироты. Архиерей внял ее просьбам, и мальчика определили в тамбовское духовное училище, по окончании которого он был переведен в пензенскую семинарию. К концу своего пребывания в ней Гавриил Иванович, как лучший ученик, был утвержден в должности учителя греческого языка в той же семинарии.
В ту пору ему шел двадцатый год. А через пять лет в судьбе молодого учителя семинарии произошел неожиданный перелом, вследствие которого ему пришлось переменить и род занятий, и место жительства.
В 1818 году в Саратове скончался священник Сергиевской церкви Е. И. Голубев, и тамошний губернатор обратился с просьбой к пензенскому архиерею назначить на место Голубева кого-либо из окончивших семинарию, с тем чтобы получивший назначение, как это обычно делалось, женился на дочери покойного протоиерея. Губернатор добавлял, что просит прислать человека достойного, ученого, но небогатого, чтобы тот взялся заодно преподавать науки губернаторским детям. Выбор архиерея пал на Гавриила Ивановича. Он принял это предложение и вскоре вошел в семью, руководимую суровой и властной вдовой Голубева.
В приданое за ее дочерью, Евгенией Егоровной, он по лучил дом на большом участке земли, спускавшемся от Сергиевской улицы вниз к Волге.
Устроив судьбу старшей дочери, Евгении, и сохранив за семьей Сергиевскую церковь, Голубева вскоре сосватала и младшую дочь — Александру. Если в первом случае ей был нужен кандидат в священники, то во втором она искала уже лицо дворянского происхождения. И не честолюбивые соображения толкали ее на это, а «житейская» необходимость: у Голубевых были крепостные слуги, приобретенные еще при покойном батюшке. Записывать их приходи лось на чужое имя, так как владеть крепостными могли только дворяне. Вышла замуж Александра Егоровна за офицера Котляревского, но прожила с ним недолго. В 1828 году Котляревский умер, оставив на руках двадцатилетней вдовы троих детей. Через некоторое время Александра Егоровна вторично вышла замуж — за дворянина Пыпина.
Первоначально Пыпины и Чернышевские жили вместе, в одной квартире, а потом, с увеличением семьи, Пыпины поместились во флигеле на том же дворе.
Семьи сестер были связаны между собой тесной дружбой.
* * *
12 (24) июля 1828 года Гавриил Иванович записал: «Поутру в девять часов родился сын Николай». Радость родителей по случаю рождения сына была безгранична. Пиршество, устроенное ими в честь этого события, надолго осталось в памяти саратовцев.
В ту пору Гавриил Иванович был протоиереем и членом консистории. Семья его не бедствовала, не нуждалась, но достаток здесь поддерживался постоянной работой старших и носил довольно своеобразный характер. Хозяйственный уклад семей своего отца и Пыпиных Николай Гаврилович называл впоследствии безденежным.
Здесь знали счет не только рублям, но и копейкам - неукоснительно экономили во всем и воздерживались от каких бы то ни было прихотей.
Благодаря тому что старшие старались ничего не таить от детей, свободно говорили при них обо всех своих делах дети рано и как-то незаметно для себя усвоили простые правила этого скромного быта, преподаваемые им самой жизнью. Они привыкли уважать волю и желание родите лей, видя, что те не на словах, а на деле честны, справедливы и добры.
Дети были предоставлены большей частью самим себе.
«Росли мы, говорил Чернышевский, - как взрослые, то есть делали все, что нам было угодно».
Гавриил Иванович с трудом выкраивал время, чтобы заниматься воспитанием и обучением младших членов семьи. И все-таки каждый из них проходил первоначально его школу. Племянница, сын, племянник Александр Пыпин, ставший впоследствии академиком, - все они сохранили благодарную память о своем первом учителе. Николаи Гаврилович, отлично владевший еще в юности латинским языком, был в большой мере обязан этим отцу.
«Я самоучка, - во всем, кроме латинского языка, которому хорошо учил меня отец», - говорил он.
И действительно, в этой области Гавриил Иванович был во всеоружии. В его собственных тетрадях, уцелевших от ученических лет, сохранились даже стихотворения, написанные им на латинском и греческом языках.
Мягкий, всегда сдержанный Гавриил Иванович старался не стеснять свободы сына. Любовь беспокойной, болезнен ной матери, наоборот, была требовательна. И часто в юности Чернышевскому приходилось идти наперекор своей воле, чтобы не огорчать мать.
Бабушка Пелегея Ивановна Голубева, женщина самобытная и умная, любила коротать время в обществе внука. Она играла с ним в шашки и за игрой и за вязаньем рассказывала все возможные истории из далекого прошлого. Многие рассказанные ею семейные предания отчетливо запомнились ему навсегда.

Бабушка Чернышевского
«Из всего, что давала мне жизнь в первую, очень важную эпоху развития, - вспоминал Чернышевский, эти рассказы были самым чудесным, самым далеким от обыкновенного скромного и рассудительного порядка жизни».
Они воскрешали перед мальчиком жизнь его предков - простых сельских жителей, мало чем отличавшихся от крестьян.
Особенно поразил его воображение рассказ Пелагеи Ивановны об одном из ее родных, который был захвачен и уведен в плен степняками-кочевниками, когда работал на пашне далеко от села. С волнением слушал он подробное повествование о побеге пленника и о погоне за ним конных киргиз-кайсаков, как называли в те времена казахов.
«Всю ночь шел; как стало светать, лег в траву; так шел по ночам, лежал по дням еще несколько суток, с первого же дня часто слыша, как скачут по степи и перекрикиваются отправившиеся в погоню за ним. Они употребляли, между прочим, такую хитрость... Кричали: «Видим, видим.» чтобы беглец попробовал переменить место, перебраться от открытого ими приюта в другой, тогда бы они увидели его над травою или распознали по колыханию травы, где он ползет. Наш родственник не поддался, выдержал страхи. Особенно велика была опасность, когда он уже дошел до какой-то реки и пролежал день в ее камышах. Ловившие его много раз бывали очень близко к нему, иной раз чуть не давили его лошадьми, но все-таки он уберегся не замечен, добрался до русских, пришел домой цел и стал жить подобру-поздорову...»
В привычном для себя кругу мальчик обычно бывал оживлен, разговорчив, в незнакомой среде застенчив, неловок. Он был очень близорук, и эта его особенность не могла не отразиться на его внешнем поведении.
«В детстве я не мог выучиться ни одному из ребяческих искусств, которыми занимались мои приятели-дети, ни вырезать какую-нибудь фигурку перочинным ножичком ни вылепить что-нибудь из глины; даже сетку плести (для забавы ловлей маленьких рыбок) я не выучился: петельки выходили такие неровные, что сетка составляла не сетку, а путаницу ниток, ни к чему не пригодную», - так писал впоследствии о ранних годах своей жизни Чернышевский.
И все же, несмотря на близорукость, он никогда не отказывался от участия в играх со своими сверстниками.
Игры протекали обычно на соседнем дворе, получившем название «Малой Азии». Здесь собирались дети небогатых чиновников и дворовых людей. Играм Чернышевский предавался с увлечением, был изобретателен и предприимчив, всегда умел подобрать компанию и непременно привлекал к игре наряду со старшими детьми малышей.
Зимой самым любимым развлечением их было катание с гор на дровнях. Обычно происходило это без ведома родителей, когда те уходили в гости, поздним вечером. Собравшись на безлюдной, темной улице, ребята снимали с дровней бочку, в которой доставлялась с Волги вода, запрягались в дровни, тащили их на Гимназическую улицу или, чаще, на Бабушкин взвоз, покато бегущий к Волге и кончающийся крутым спуском к реке. Разогнав дровни, лихо мчались они мимо покосившихся домиков Бабушкина взвоза вниз, а в самом конце пути непременно направляли дров ни на высокий выступ, чтобы скатиться с него и пролететь через прорубь у берега реки.
Наслушавшись рассказов дворовых людей о кулачных боях, ребята бегали любоваться ими на Воловую улицу. Хам, около кабачка «Капернаум», по воскресным и праздничным дням «стена» семинаристов, во главе с кулачным бойцом Соболевским, вступала в бой со «стеной» тулупников и нередко разбивала её.
Зрелище это захватывало Чернышевского. С замиранием сердца следил он каждый раз за ходом битвы, в которой так ярко проявлялись удаль и мужество народа, не знавшего, где применить свою богатырскую силу.
Саратов в ту пору был изрядной глушью.
«Уж я был не маленький мальчик, - вспоминал Чернышевский, когда каждую зиму все еще случалось, что волки заедали людей, шедших через реку из Саратова в Покровскую слободу - огромное село на другом берегу, не сколько повыше города... И тоже: я был уже взрослый мальчик, когда слушал, стоя на дворе своего дома, близ берега Волги, как они завывают на той стороне реки».
Запомнился ему рассказ бабушки о старшем ее родственнике, сельском дьячке, придумавшем свой способ охотиться на волков. Он сам построил на полянке среди леса избушку. В ней вместо окон были прорезаны маленькие бойницы; плотная дверь запиралась изнутри на бревенчатый засов, кровля была из частых бревен, покрытых толстыми досками.
Он привязывал неподалеку от своей крепостцы поросенка или гуся, а сам с двумя ружьями усаживался в ней и ждал волков. Таким образом он побивал их по три, по четыре штуки в один раз без всякой опасности для себя.
Но вот однажды волки набежали к избушке целой стаей и начали ее осаждать. Многих из них побил охотник, но остальные все больше и больше свирепели и ломились в избушку, чтобы растерзать своего истребителя. Дверь выдерживала хорошо - тогда волки стали пробовать кровлю: сорвали доски, обнажив перекрытия, но решетины были слишком мелки, чтобы волку пролезть, - просовывались только головы до плеч. Заряды у охотника вышли; впрочем, все равно стрелять он уже и не мог: очень близко к нему были морды волков - меньше чем на длину ружья. Нельзя было стать во весь рост - волки хватали бы лапами за го лову. Охотник, сидя, махал топором по мордам и лапам волков, но стал выбиваться из сил.
Долго длилась осада - чуть ли не больше суток, и волки все силились выворотить бревно из потолочной решетки. Избушка скрипела от их прыжков. Совсем и не чаял уж спасения охотник.
Но, к счастью, мужики в селе забеспокоились: не случилось ли чего с дьячком, - давно пора ему возвратиться. От правились толпой к избушке и вызволили охотника, когда он ни на что уже не надеялся.
С той поры зарекся дьячок охотиться и никогда не брал ружья в руки. Не мог забыть смертельного томления в долгие часы осады, в полутора аршинах от волчьих оскаленных на него зубов и сверкающих глаз.
«Глаза были страшны, - говорил он бабушке, - уж больно страшны, страшнее воя, а вой тоже был страшный...»
* * *
Из окон родительского дома видна была вся ширь любимой Волги. С правой стороны вырисовывался высокий, поросший тальником островок, носивший название Зеленой Косы. Часто бродил Чернышевский по живописным берегам Волги в сторону Соколовой горы и все не мог налюбоваться на величавую реку.
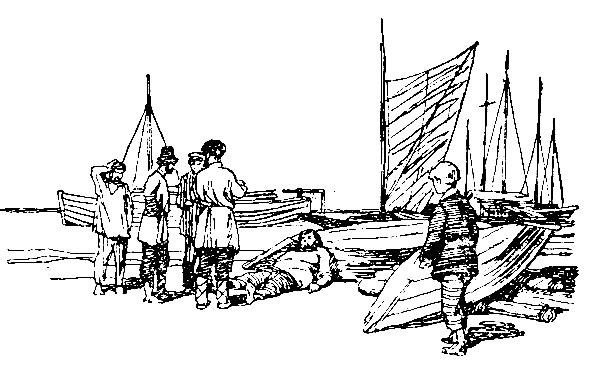
Пристани Саратова
Пристани Саратова заполняли большие и малые суда баржи, расшивы, шитики. Вверх и вниз по реке тянулись караваны груженых судов. На берегу Волги были раскинуты станы бурлаков и грузчиков. Многие из них жили в землянках, а то и под открытым небом. Особенно была полна этой голытьбой ближайшая к берегу улица, называвшаяся, словно в насмешку, Миллионной.
По вечерам берег Волги оглашали звуки заунывных бурлацких песен.
Оборванные, полуголодные обитатели этой улицы постоянно толпились и шумели на пристанях, до хрипоты спорили с купцами-работодателями, у которых одно лишь было на уме - обсчитать, недодать, обвесить...
Случись бурлаку заболеть на барже, стащат его на берег...Он так и лежит, покуда не придет полиция и не подерет его. Впоследствии Чернышевский вспоминал, что в детстве он сам бывал свидетелем таких сцен.
В городе, насчитывавшем около пятидесяти тысяч жите лей, было несколько десятков заводов и фабрик. В центре Саратова красовались дворянские и купеческие особняки на окраинах - деревянные домишки, жалкие покосившиеся лачуги, в которых ютилась городская беднота.
Самым родным в детстве был свой двор, две - три близлежащие улицы - Покровская и Московская, площадь Нового собора, берег Волги от Соколовского оврага до местности на версту ниже Сергиевской улицы. Другие части города бы ли ему меньше знакомы.
Дома - обыкновенный, размеренный порядок жизни. Замкнутый мир священнической семьи с ее несколько обособленными интересами: церковь, обедня, архиерей, пост, исповедь - вот обычные темы домашних разговоров, вот предметы, чаще всего занимавшие старших.
Но рядом текла другая жизнь, вставали другие картины, оставлявшие неизгладимое впечатление в душе ребенка. Нередко доводилось ему слушать рассказы о тяжелой участи крепостных крестьян, о жестокости помещиков, о мятежах и восстаниях в деревнях, кончавшихся всегда рас правой над бунтовщиками. Из од ной только Саратовской губернии за участие в этих бунтах были сосланы тогда сотни крестьян. Ссылаемых гнали партиями под кон воем, иной раз и мимо дома Чернышевских по Царицынской улице.

Полиция
В Аткарском уезде, верстах в восьмидесяти от Саратова, по соседству с деревенькой, которой владели Пыпины, был убит крепостными слугами помещик, деспотически обращавшийся с ними. Пыпинские крестьяне, приезжавшие в дом Чернышевских, рассказывали во дворе, как безжалостно расправилась потом полиция с теми, кто был повинен в убийстве помещика. Рассказывали они и о том, будто где-то далеко-далеко, на Дарье-реке, есть такие благословенные края, где землепашцам легко и безбедно живется, потому что нет там ни помещиков, ни начальства. А потом доходили из деревень слухи о беглецах, отправлявшихся на поиски обетованной земли. Незавидна была участь тех, кого властям удавалось изловить. Их возвращали обратно и снова передавали владельцам после жестокого наказания — на торговой площади их пороли плетьми и били батогами у «позорного столба». Называлось это торговой казнью.
В Саратове в ту пору стоял пехотный полк. На плацу обучали солдат ружейным приемам, и стоило только рядовому допустить неисправность, как тут же на плацу подвергали его публичной экзекуции.
В дни рекрутского набора перед зданием присутствия собирались толпы народа. С плачем провожали родные рекрутов, уходивших из семьи на двадцатипятилетний срок. А те, кому «забрили лоб», с отчаяния предавались напоследок бесшабашному пьянству.
Эта забитость и бесправие народа очень рано пробуди ли в душе Чернышевского ненависть к угнетателям. И уже тогда мелькали у него смутные мысли о необходимости иной, разумной и счастливой для всех жизни.
Гавриил Иванович считал, что сыну предстоит в будущем стать священником; для этого надо было определить его сначала в духовное училище, а потом в семинарию. Однако он решил самостоятельно подготовить его прямо к поступлению в семинарию, избавив от посещения духовного училища. Он хорошо знал, что ничего, кроме тягостных впечатлений, не сулит эта школа, где от учеников требовали только бессмысленной зубрежки и беспрекословного повиновения невежественным и грубым наставникам, пускавшим иногда в ход и розги.
Помещалось училище в грязном, запущенном здании на площади против Троицкого собора и старого Гостиного двора. Зимой оно плохо отапливалось, ученики сидели на уроках в пальто и в полушубках. В городе поговаривали, что ректор училища пьянствует, что преподаватели, жившие тут же в общежитии при училище, в свободное от уроков время охотнее всего играют в карты. Гавриил Иванович рассудил, что разумнее обойтись без помощи такой школы.
Благодаря связям отца Николай Чернышевский был лишь формально зачислен в списки учеников духовного училища, с оговоркой, что он имеет право не посещать школу, занимаясь дома, и обязан только держать экзамены.
С середины 1836 года Гавриил Иванович начал, хотя и урывками, но ежедневно заниматься с сыном.
«Труд все преодолевает», «Честный человек всеми любим», «Един есть бог естеством» - старательно выводил гусиным пером в тетради эти прописи восьмилетний мальчик. Когда тетрадь подходила к концу, отец шутливо говорил ему:
- Ну, а теперь пиши: «Аминь, миряне, обедня вся».
Прежде Николаю часто читала вслух двоюродная его сестра Любовь Котляревская, и они подолгу потом говорили о прочитанных книгах. А когда он научился читать сам, то постепенно привычка к чтению превратилась у него в настоящую страсть. Он не расставался с книгой ни за обедом, ни за ужином. Это сердило бабушку, но отец не делал ему замечаний, прощая нарушение принятого порядка.
Домашняя библиотека отца размещалась в двух шкафах. Тут были книги писателей XVIII и начала XIX века: «История Государства Российского» Карамзина, «Путешествие вокруг света» Дюмон-Дюрвиля, «Энциклопедический лексикон» Плюшара, «Картины света» А. Вельтмана, комплекты журнала «Живописное обозрение», обширная историческая литература. Гавриил Иванович доставал у знакомых сочинения Пушкина, Жуковского, Гоголя, журналы «Отечественные записки», «Современник», «Библиотеку для чтения». По «Отечественным запискам» Чернышевский еще в детские годы мог познакомиться с произведениями Герцена и Белинского.
Любимым его поэтом был тогда Лермонтов, чуть ли не все лирические стихотворения которого он знал наизусть. Большое впечатление на двенадцатилетнего мальчика произвели романы Жорж Санд и Диккенса, печатавшиеся в «Отечественных записках».
Давно, еще с первых уроков, Гавриил Иванович при метил, что природная одаренность сочетается у сына с какой-то ненасытной любознательностью и удивительным трудолюбием. Никогда не довольствовался он выполнением только заданного, но стремился идти все дальше и дальше. С особенной ясностью сказалось это, когда он начал заниматься с отцом классическими языками, разбирать и пере водить отрывки из произведений древнегреческих и латинских авторов. Латынь и греческий язык составляли основу семинарского образования. Поэтому в занятиях им уделялось особое внимание.
«Удивительно, как Коля чисто по-русски передает мысль греков», - нередко замечал Гавриил Иванович близким.
Сначала Евгении Егоровне представлялось, что домашнее образование все-таки недостаточно и не может заме нить школьного.
«Сколько раз говорила отцу, чтобы он отдал мальчика в школу... Нет, и слышать не хочет, твердит свое: Коля знает больше любого ученика старших классов. А когда ему, скажите пожалуйста, учить-то Колю? Придет из церкви, поговорит с ним полчаса и уйдет в консисторию...» - сетовала она смотрителю духовного училища.
Но скоро Евгения Егоровна увидела, что муж прав: чувство долга и тяга к знанию так рано развились у Николеньки, что достаточно было только направить его, дать толчок его мысли, чтобы потом он и без посторонней по мощи довершал начатое.
Интерес его к изучению языков, казалось, не знал границ. Он старался использовать любую возможность расширить свои познания в этой области.
Случайно познакомившись однажды с персом, торговавшим фруктами, Чернышевский предложил ему давать уроки русского языка, с тем что сам будет учиться у него персидскому. Тот согласился и время от времени стал появляться в доме Чернышевских. У порога он сбрасывал туфли, усаживался с ногами на диван, и начинались занятия, к которым мальчик относился с чрезвычайной серьезностью.
Немецкий язык преподавал Николаю Чернышевскому и Александру Пыпину учитель музыки немец-колонист, которого Гавриил Иванович обучал за это русскому языку.
Живший в ту пору в Саратове профессор Саблуков, большой знаток восточных языков, заглядывая иногда в гости к Чернышевским, познакомил мальчика с арабской и татарской грамматикой. Ни одна минута досуга после приготовления обязательных предметов не пропадала у него даром.
Прочитав «Римскую историю» Роллена в переводе Тредьяковского, Чернышевский стал тщательно сверять страница за страницей перевод с подлинником, отмечая неточности, устарелые и неправильные обороты речи у Тредьяковского. Он сумел заинтересовать этим делом и своего товарища Чеснокова. В течение всей зимы 1840 года вместе целыми вечерами напролет трудились они над «исправлением» тяжеловесного перевода этой многотомной «Истории».
Глядя на них, взялся за чтение Роллена и дальний родственник Чернышевских - Александр Раев, готовившийся после семинарии к поступлению в университет (он был лет на пять старше Николая Чернышевского). Вскоре он попросил своего младшего родственника помогать ему готовиться к университетским экзаменам.
Когда Чернышевскому исполнилось четырнадцать лет, он был зачислен в саратовскую духовную семинарию. Не много могла дать ему эта школа. Даже заурядные ученики приходили в уныние от пустоты преподаваемых здесь предметов - они возбуждали лишь скуку, досаду и насмешки.
Что же было делать в такой школе одаренному и начитанному юноше с огромной силой ума и пламенной любовью к науке? По уровню своего развития и знаний он стоял неизмеримо выше требований, предъявляемых здесь к ученикам.
Вскоре после того, как Раев уехал в Петербург, Николай Чернышевский писал ему:
«А уж в семинарии что делается, и не знаю... Дрязги семинарские превосходят все описание. Час от часу все хуже, глубже и пакостнее».
На уроках он большей частью занимался выписыванием слов из лексиконов, совершенствуя свое знание языков. Это осталось в памяти его одноклассников, отмечавших, впрочем, что, как бы Чернышевский ни был погружен в свои лингвистические занятия, любой вопрос преподавателя не заставал его врасплох. Он тотчас же отрывался от тетрадей, вставал и отвечал урок, обнаруживая при этом знания, идущие далеко за пределы обычной подготовленности.
Особенно любили ученики, когда наступала очередь Чернышевского отвечать по истории. Обыкновенно урок протекал вяло. Преподаватель Синайский был отличным знатоком греческого языка, но историю знал плохо. Ученики скучали в классе, но, когда учитель заставлял отвечать Николая Чернышевского, многолюдный и шумный класс мгновенно затихал. О чем бы ни шла речь: о крестовых походах, о судьбах славянских племен или о великом переселении народов, ответы его показывали, что он превосходно владеет материалом, почерпнутым не из учебников, а из солидных исторических трудов. Чувствовалось, что он уже успел самостоятельно пройти серьезную школу и вооружен большим запасом знании, позволяющих ему свободно сопоставлять события различных эпох. Из множества подробностей он умел выделять самое существенное и с удивительной силой логики развивать свои доказательства.
Говорил он просто, без внешнего блеска, без ярких сравнений. Напротив, он любил приводить примеры из повседневности, знакомой каждому. Но это-то и делало очень, казалось бы, сложные вопросы понятными и интересными для всех.
Сочинения его (они именовались в семинарии «задачки») считались образцовыми. «Так развивать тему сочинений могут только профессора академии», - докладывал о них начальству учитель словесности.
Глубокой верой в силу науки проникнуты эти юношеские опыты Чернышевского. Одно из его сочинений заканчивалось так:
«Прекрасно называли римляне образованный науками ум excultum ingenium1. Они говорят нам этим, что для ума образование столь же необходимо, как для земли об работка: а и самая плодоносная без разработки засева хорошими семенами и ухода за собою или не принесет ни чего, или принесет одни негодные травы.
1 (Обработанный ум)
Легко нам из этого видеть, как необходимы науки для самых лучших дарований природных. Поэтому те из нас, которые чувствуют в себе этот драгоценнейший дар божий, должны всеми силами стараться об образовании его особенно теперь, когда так обильны источники знаний, из которых почерпать мы можем, и тем более, что мы ежедневно видим, как на деле оправдывается пословица «Чему в молодости не выучишься, того и на старости знать не будешь».
Воздействие школьной среды всегда очень ощутительно. Чернышевский попал в школу, когда ему минуло уже четырнадцать лет; после привычной семейной атмосферы он очутился сразу в новой для него обстановке.
Вот каким рисует его один из товарищей по семинарии:
«В это время он был несколько более среднего росту, с необыкновенно нежным, женственным лицом; волосы светло-желтые, но волнистые, мягкие и красивые; голос его был тихий, речь приятная; вообще это был юноша, как самая скромная, симпатичная и невольно располагающая к себе девушка. К его несчастью, он был крайне близорук, книгу или тетрадь он держал у самых глаз, а писал, всегда наклонившись к самому столу».
Застенчивый, женственный с виду, близорукий, тихий юноша... Для озорных, грубоватых семинаристов эти качества нового ученика, казалось бы, могли явиться лишь поводом к насмешкам, подшучиваниям. К тому же он был «первым учеником». А в старой школе это зачастую не только выделяло, но и отгораживало такого ученика от товарищей.
Но с Чернышевским этого не произошло. Он скоро су мел внушить товарищам и любовь и уважение. Они беспрестанно обращались к нему за помощью, а он в такихслу чаях был неизменно внимателен и отзывчив. Помогал он не только «своим», то есть семинаристам, но и ученикам гимназии, ходатаем за которых перед ним был Саша Пыпин, учившийся там. Впоследствии один из саратовских гимназистов вспоминал, что ему не раз случалось обращаться к Чернышевскому с просьбами помочь сделать тот или иной перевод с французского.
« - Я вижу, тебе хочется играть, - говорил обыкновенно Николай Гаврилович. - Ну, ступай, малец, играй - я переведу тебе...
Я с радостью отправляюсь играть, - добавлял рассказ чик, - а Николай Гаврилович напишет мне французский перевод, за который учитель поставит пять. Когда же нельзя, по случаю ненастной погоды, играть на дворе, то Николай Гаврилович примется объяснять мне уроки, и делает это так понятно, что я скоро усваивал.
- Ну, понял наконец! - скажет он. - Нужно только хорошенько вникнуть в урок, и тогда все поймешь...»
Семинарские нравы в те времена отличались, как правило, особой грубостью и дикостью. В саратовской семинарии они, пожалуй, были еще сравнительно мягки. По край ней мере, сечение здесь не вводилось в систему, хотя некоторые наставники и прибегали иной раз к рукоприкладству, и заставляли провинившихся учеников стоять на коленях в углу и класть земные поклоны.
Особенной горячностью и вспыльчивостью отличался латинист Воскресенский, перед которым ученики трепетали. В гневе он бил их книгами по головам, трепал за уши и за волосы, а одного семинариста чуть не изувечил, столкнув с лестницы.
Вместе с тем он мог делать и добро семинаристам. Самым бедным из них он оказывал поддержку деньгами, дарил им одежду, приглашал некоторых к себе и угощал обе дом или чаем.
Неудивительно, что Чернышевский был у латиниста на лучшем счету, еще до поступления в семинарию он свободно читал речи Цицерона, не обращаясь к словарю.
Желая помочь товарищам, он являлся в класс до начала уроков, проверял и объяснял заданное. Ученики подходили к нему группами, по нескольку человек. И он переводил, терпеливо растолковывал им трудные места.
А в это время с разных сторон раздавались возгласы:
- Чернышевский! Правильно ли здесь написание глагола?
- А что значит это слово?..
И ни один вопрос не оставался без ответа...
Бедность семинаристов ужасала его. Только у одного из них была волчья шуба, и эта необычная шуба представлялась чем-то не совсем даже приличествующим ученику семинарии. Часто думал Николай Чернышевский о том, как жалок удел бурсаков: терпеть побои и унижения, голодать и чуть ли не собирать подаяние, - только в том и проходит их молодость.
С большинством одноклассников у него установились ровные приятельские отношения, но самым близким другом Чернышевского в семинарии был Михаил Левицкий. В классе они сидели рядом на первой скамье.
Друзья не могли и двух дней прожить не повидавшись. Но когда однажды Николай Гаврилович заболел лихорадкой и недели три не являлся в семинарию, Левицкий не ре шился навестить его, потому что у него не было сносного костюма. Зимой он ходил в синем зипуне, а летом в нанковом халате. Порой Левицкому не в чем было являться даже в класс, и тогда Чернышевский каждый день приходил к нему в общежитие.
Порывистый Левицкий постоянно спорил с преподавателями, открыто высказывал свое несогласие с ними.
- Ты, Левицкий, настоящий лютеранин, - говорил ему законоучитель Петровский, - твои возражения не в право славном духе. Ты споришь не затем, чтобы узнать истину, а затем, чтобы выведать мои познания, поймать меня на слове, сконфузить перед классом.
Однажды на уроке древнееврейского языка Левицкии исчеркал записки учителя и на возмущенный вопрос послед него ответил ему:
- Зачем вы здесь наврали!
За эту выходку его лишили казенного содержания.
Произошло все это, когда Чернышевский уже уехал из Саратова и учился в Петербургском университете. Получив там известие о Левицком и еще не зная в точности причин, вызвавших наказание, Чернышевский был огорчен до глубины души...Ещё бы! Ведь ему казалось, что Левицкий мог стать в будущем гордостью России. Лишение единственной материальной опоры ставило под удар судьбу талантливого, но неустойчивого юноши, и без того склонного топить неудачи в вине.
«Теперь он вовсе сопьется с кругу, - решил Чернышевский. - Это человек с удивительною головою, с пламенною жаждою знания, которой, разумеется, нечем удовлетворить в Саратове, и ему, бедняку-бурсаку. Эти мелкие, пустые, грошовые, но ежеминутные, постоянные и непреоборимые почти препятствия естественно каждого, кто не одарен слишком сильною волею, твердым характером, сделают раздражительным, несносным человеком... Верно, он думал, думал о том, что дельное, нужное, полезное могло бы из него выйти, но... и взрывало бедняка...»
Должно быть, случилось именно так, как предполагал Чернышевский: Левицкий спился. Он умер в молодых годах.
Еще задолго до отъезда Чернышевского в Петербург началось в семье обсуждение вопроса, следует ли ему избрать духовную карьеру или лучше поступить в университет.
Неприятности по службе, возникшие у Гавриила Ивановича, уволенного в 1843 году из консистории, по-видимому, повлияли на его решение предоставить сыну свободу в вы боре будущего пути.
История эта смутила и Евгению Егоровну, которая прежде твердо держалась мнения, что сын должен остаться в духовном звании.
«Николай учится прилежно по-прежнему, - писала она в одном из писем родственнику, - по-немецки на вакации брал уроки, по-французски тоже занимался. Мое желание было и есть оставить его в духовном звании, но... согрешила: настоящие неприятности поколебали мою твердость; всякий бедный священник работай, трудись, а вот награда лучшему из них...»
А вернее всего, Гавриил Иванович просто-напросто вынужден был уступить настойчивому стремлению сына по лучить светское образование. Так или иначе, но уже вскоре после определения Чернышевского в семинарию начались разговоры о возможности перехода его в университет.
Желание Николая Гавриловича горячо поддержал и преподаватель саратовской семинарии Саблуков, у которого он изучал восточные языки.
Николай Гаврилович всегда с благодарностью вспоминал об этом своем учителе и называл его одним из добросовестнейших тружеников науки и чистейших людей, с какими приходилось ему встречаться. Именно на восточный факультет и намеревался первоначально поступить Чернышевский.
Прежде чем взять сына из семинарии, Гавриил Иванович написал в Петербург Раеву, чтобы тот выяснил, воз можно ли будет Николаю поступить в университет, не за кончив семинарского курса, и, кстати, просил прислать программы приемных экзаменов.
В декабре 1845 года было подано прошение ученика среднего философского отделения Николая Чернышевского об увольнении из семинарии:
«С согласия и позволения родителя моего, протоиерея церкви нерукотворного Спаса, Гавриила Чернышевского, я желаю продолжать ученье в одном из русских императорских университетов».
Успехи Чернышевского были аттестованы следующим образом: «по философии, словесности и российской истории - отлично хорошо; по православному исповеданию, священному писанию, математике, латинскому, греческому и татарскому языкам - очень хорошо; при способностях от личных, прилежании неутомимом и поведении очень хорошем».
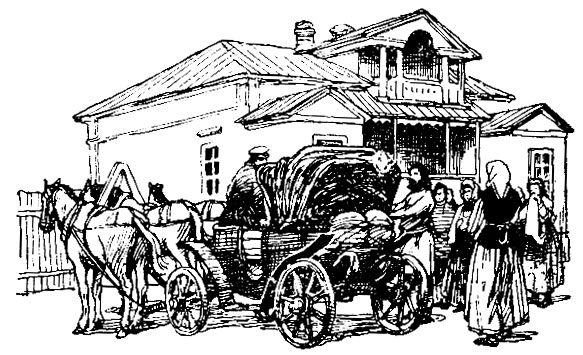
Отъезд Николая Гавриловича
Не сразу было решено, где лучше учиться сыну: в ближайшей ли Казани, в Москве или в Петербурге. Когда остановились все-таки на Петербурге, потому что там жил Раев, будущий отъезд Николая Гавриловича стал главной темой домашних разговоров.
Так продолжалось целый год. Безденежному хозяйству протоиерея предстояло серьезное испытание. Нужно было выкроить немалые средства на самый переезд в столицу, хотя бы и на «долгих»1, что было значительно дешевле, чем ехать с почтовыми. Рассчитывать приходилось все: и цену меры овса, и стоимость содержания в пути извозчика с его тройкой, и «поборы» на шоссе, и плату на постоялых дворах. Дальше шли расходы на первое устройство - квартира, форма, учебники и, наконец, расходы Евгении Егоровны на обратном пути. Мать ни за что не соглашалась отпустить сына одного и, пренебрегая слабым здоровьем, решила сопровождать его до Петербурга, чтобы своими глазами убедиться, как устроится их любимец вдали от родного дома.
1 (Отправляясь на «долгих», путешественники нанимали пару или тройку лошадей «от места до места» и, не меняя экипажа, ехали всю дорогу на одних и тех же лошадях. )
Волнение, с каким здесь ждали путешествия в Петербург, было тем острее, что ведь никто из семьи никуда не ездил, если не считать поездок отца по епархии в заволжские уезды.
Отъезд из Саратова был назначен на 18 мая. В тот день у ворот дома с утра стояла повозка - укладывали запасы провизии на дорогу, вещи и книги будущего студента. Кроме него и матери, отправлялась с ними как компаньонка матери Устинья Васильевна - дочь саратовского лавочника, квартировавшая в доме Чернышевских.
Сборы тянулись до вечера. Потом началось прощанье по очереди с бабушкой, с отцом, с двоюродными сестрами, с Сашей Пыпиным, прозванным в гимназии за малый рост Пипином Коротким.
Наконец путешественники разместились, лошади тронулись. В последний раз, выглянув из повозки, Чернышевский посмотрел на высокую фигуру отца, вышедшего на улицу в домашнем одеянии - в полукафтане из тонкой шерстяной материи, подпоясанном вышитым поясом. Таким и сберег его в памяти сын, уезжая в далекий сказочный Петербург.
«Мой Николай, - писал Гавриил Иванович через три дня Раеву, - 18 сего мая в 5 часов после обеда оставил Саратов, чтобы явиться к вам в Петербург под предводительство и попечительство ваше».
Поездка предстояла длительная, трудная. В первый день отъехали всего верст двенадцать от Саратова и заночевали в деревне Ольшанке. Эта медлительность настраивала Чернышевского на шутливый лад. Он писал с дороги Саше Пыпину, что при такой стремительной быстроте передвижения поездка до Петербурга продлится «всего» лишь сорок с лишним дней.
Шутка эта была недалека от истины — путешествие Чернышевских в столицу (с остановками в пути) растяну лось на целый месяц.
На другой день, выехав из Ольшанки, добрались к полудню до Мариинской колонии, где остановились кормить лошадей. Здесь в доме священника они познакомились с землемером-поляком Кеном, учившимся когда-то в Петербургском университете. Кен рассказал Николаю Гавриловичу много любопытного об университетских порядках, дал необходимые советы, как держать себя на экзаменах, и даже написал рекомендательное письмо инспектору университета.
Во все время пути Чернышевского не оставляло радостное возбуждение. Мысль о том, что он едет учиться в сто лицу, приводила его в восторг. Он сдерживался в проявлениях радости, чтобы Евгения Егоровна не подумала, будто ему легко далась разлука с родным гнездом.
Он смутно чувствовал, что в близком будущем в его внутреннем мире начнется глубокий перелом, полоса быстрого развития. Ежедневно и ежечасно душа и ум его, обогащаемые новыми впечатлениями, становились все зорче и сильнее. Наконец-то он близко соприкоснётся с жизнью, и наука поможет ему разгадать сущность явлений окружающего мира. Ведь вот смотришь теперь на каплю воды, на листок зелени простым глазом, и кажется, не над чем тут и задумываться. А возьмешь микроскоп, и эта капля, бесцветная, мертвая, оживает под ним: в ней видишь ты целый мир, прежде тебе неведомый.
Белгаз... Китоврас... Балашов - все было новосаратовцам.
Но погода сначала не радовала. Холодный ветер гнал облака, частые дожди размывали и без того плохую дорогу. Повозку кидало на ухабах и рытвинах; при въездах в села она тонула в огромных непросыхавших лужах. По сторонам тянулись бесконечные вспаханные поля, мелькал ельник, одинокие полосатые версты. По дороге останавливались у священников, товарищей отца по ученью и службе.
В селе Баланды дьякон Протасов, прощаясь, пожелал путешественникам счастья, удачи, здоровья и, обратившись к Николаю Гавриловичу, добавил:
- Желаю вам, молодой человек, чтобы вы были полезны для просвещения России.
Евгении Егоровне, видимо, по душе пришлись слова Протасова, но из скромности она возразила:
- Это уж слишком много. Довольно, если и для отца и матери.
- Нет, это еще очень мало, - возразил Протасов, ласково улыбнувшись юноше. - Надобно им быть полезным и для всего отечества.
Слова эти поразили Чернышевского потому, что дней за пять до отъезда его из Саратова священник Петр Никифорович Каракозов в разговоре о предстоявшей Чернышевскому поездке в Петербург тоже сказал ему нечто похожее:
- Приезжайте к нам оттуда профессором, великим мужем, а мы к тому времени уже поседеем.
Эти две встречи произвели сильное впечатление на юношу.
«Как душа моя вдруг тронулась этим! - записал он в дорожной тетради. — Как приятно видеть человека, который хоть и нечаянно, без намерения, может быть, но все-таки сказал то, что ты сам думаешь, пожелал тебе того, чего ты жаждешь... Эти люди могут понять, что такое значит стремление к славе и соделанию блага человечеству...»
Только к концу месяца добрались наконец до Воронежа. Здесь передышка на несколько дней после немыслимой тряски, после ночевок в черных курных избах и на постоялых дворах. С интересом осматривали воронежские церкви, монастырь, кафедральный собор. Мать все накупала образочки и колечки для племянниц, оставшихся в Саратове.
В те дни, когда юноша Чернышевский направлялся в Петербург, оттуда выехал на юг - через Москву, Калугу, Воронеж Виссарион Григорьевич Белинский. Жизнь его была уже в опасности, здоровье резко ухудшалось, и друзья уговорили его отдохнуть от работы в журнале, полечиться в Крыму, благо и спутник нашелся приятный: в Москве присоединился к нему известный актер Михаил Щепкин.
По случайному совпадению 1 июня 1846 года Белинский и юноша Чернышевский оказались одновременно в Воронеже. И кто знает, может быть, бродя в тот день по улицам города, Николай Чернышевский встретился лицом к лицу с человеком, имя которого стало для него вскоре путеводной звездой.
В эти дни перед Чернышевским впервые открылись не объятные просторы родины, а старший его современник совершал одно из последних своих путешествий. И оба они воочию видели тогда рабство и нищету народа, ужасающее неустройство его жизни.
Трудно было в то время путешествовать... Белинский с дороги писал, что они не ехали, а подлинно плыли, потому что жидкая грязь доходила лошадям до колена и лужи бы ли выше брюха. Однажды экипаж их так завяз в грязи, что выйти из него не было возможности: так и сидели в нем, пока не подоспели на помощь мужики.
Чернышевский в письме к Саше Пыпину с пути тоже де лился горько-шутливыми мыслями об улучшении дорог, экипажей и прочего. По всем дорогам надо устроить крытые галереи, шириной сажен в пять, вышиной сажени в две с половиной, и вымостить их чугунными плитами. От Петербурга до Саратова ехать будет тогда легко и просто, ведь тепло и светло будет, как в комнате. Вот какие проекты приходили ему в голову.
«Как буду министром путей сообщения (теперь я решился согласиться пока и на это место), шутливо замечал Чернышевский, - то буду приводить их в исполнение».
Но когда-то еще станешь министром, а сейчас даже и в пути приходится, используя каждую свободную минуту, готовиться к экзаменам в университет.
В воскресенье 2 июня ранним утром выехали на Задонск-Елец. Ямщик Савелий толком не знал дороги, да и с лошадьми едва управлялся. Евгения Егоровна спорила с ним; он отвечал ей грубостями, что крайне расстраивало ее.
На десятый день по отъезде из Воронежа показалась Москва. От заставы поехали на Малую Бронную к саратовцу-земляку, священнику Клиентову.
Отдохнув с дороги, отправились с маменькой осматривать Кремль. Путь лежал мимо университета и манежа. А затем Чернышевский пошел на почтамт за письмами от отца и с письмом в Саратов. Удивлялся, проходя по Кузнецкому мосту, что моста-то и нет. Удивлялся обилию студентов - всюду мелькали их голубые воротники, да ром что каникулы. Никак не мог. свыкнуться с мыслью, что он в Москве, чудно казалось.
Особенно понравились ему здесь густые бульвары, при дававшие необыкновенную прелесть городу.
На другой день Евгения Егоровна объявила о своем намерении съездить в Троице-Сергиевскую лавру помолиться перед поступлением Николеньки в университет. Ей хоте лось, чтобы в этой поездке их сопровождала старшая дочь Клиентова - Александра Григорьевна, заменявшая в доме хозяйку, так как отец уже давно был вдовцом.
Александра Григорьевна невольно располагала к себе всех своей сердечной мягкостью, естественным благородством, тактом и какой-то затаенной грустью. Чувствовалось, что ей не сладко жилось под отчим кровом; она уже успела побывать замужем, овдоветь и снова возвратилась к отцу, чтобы принять на себя здесь тяжкое бремя материнских за бот о большой семье.
Дурное обхождение с нею отца, пренебрежительно смотревшего на вдовую дочь как на служанку, не ускользнуло от Чернышевского и сразу пробудило в нем острое чувство обиды за горькую участь молодой женщины, лишившейся личных радостей и жившей теперь всецело для сестер и отца. Ему поминутно хотелось обратить на себя ее внимание, но он был робок, неловок, все время терялся и упускал од ну за другой возможность проявить свое расположение к Александре Григорьевне.
Только после настойчивых просьб Евгении Егоровны Клиентов дал позволение дочери отправиться вместе с Чернышевскими.
Вез их все тот же Савелий на той же тройке. Было ветрено, и Евгения Егоровна то и дело укрывала сына, беспокоясь, как бы его не продуло. Это становилось смешным, но сын не решался возражать, когда она прикрывала его со стороны ветра то собственной ладонью, то всем своим те лом, то платком, распустив его по воздуху и придерживая обеими руками.
В Сергиевском посаде остановились на постоялом дворе. В лавре путешественники отслужили молебен о прекращении дождя, чтобы не так трудна была дорога до Петербурга.
На возвратном пути, пока Евгения Егоровна дремала в повозке, Чернышевский, разговорившись с Александрой Григорьевной, был поражен ее тонким умом и душевной чистотой. Александра Григорьевна неохотно говорила о себе. Но чем более удавалось ему по отдельным черточкам из их разговора в дороге составить сколько-нибудь полное представление о собеседнице, тем все сильнее его трогала ее грустная судьба и тем большей симпатией проникался он к ней...
Он и не подозревал тогда, что с ним говорит подруга детства и юности жены Герцена. Об этом Чернышевский узнал лишь несколько лет спустя, когда снова довелось ему побывать у Клиентовых и ближе познакомиться с ней.
Возвратившись из лавры, мать и сын подвели итоги многодневного путешествия от Саратова до Москвы, подсчитали расходы и решили, что с ямщиком лучше расстаться и купить места в дилижансе. Это дороже, но быстрей и удобней. Правда, Савелий рядился везти не только до Москвы, но и от Москвы до Петербурга по шоссе, но он оказался пьяницей, ненадежным человеком. Чернышевский писал отцу по-латыни, что они решили дальше ехать дилижансом, так как измучены длительной ездой в тряской по возке.
Билетами запаслись заранее. В день отъезда на обширном дворе почтамта, где стояли огромные дилижансы, со брались пассажиры. По лестнице, укрепленной позади ку зова, носильщики тащили наверх багаж, пассажиры торопились занять места.
На рассвете 19 июня, после трех суток пути, дилижанс, в котором ехали Чернышевские, прибыл в северную столицу и остановился во дворе дома на углу Малой Морской и Невского. Как только город проснулся, они отправились на поиски Раева. Тот радушно принял родственников и тот час помог им отыскать временную квартиру близ своей, неподалеку от Невского.
Из окон был виден достраивавшийся Исаакиевский собор. Огромный вызолоченный купол сиял на солнце. Днем Чернышевский вышел на многолюдный Невский. От гуляющих «прохода не было, как полвека назад, говорят, не было хода судам по Волге от множества рыбы». Подолгу простаивал юноша у витрин книжных магазинов, обилие которых его изумляло - чуть ли не в каждом доме по магазину. С ненасытным любопытством провинциала Чернышевский спешил все осмотреть в Петербурге, чтобы поде литься своими впечатлениями с родными.
Как великолепна одетая в гранит Нева! Даже после любимой Волги не устаешь любоваться ею и удивляться ее ширине. А Казанский и Исаакиевский соборы, особенно последний с его золотым куполом, который виден отовсюду... Университет и Академия художеств... Мосты через Неву на судах...
В письмах к родным он старался применяться к интересам каждого из них. Бабушке рассказывал о том, что видел митрополита на Невском и что скоро, может быть, увидит царскую фамилию.
«Видели мы и паровоз; идет он не так уже быстро, как воображали: скоро, нечего и говорить, но не слишком уже... Даже маменька, увидевши машину в ходу, убедились, что езда эта не опасна».
Отцу описывал великолепие здешних соборов, рассказы вал об успешных карьерах земляков в Петербурге, о будущем своем устройстве, о хлопотах по приему в университет.
«Я до смерти рад и не знаю, как сказать, как Вам благодарен, милый папенька, что я теперь здесь... Теперешнее время очень важно для решения судьбы моей...»
Саше и двоюродным сестрам шутливо изображал всю прелесть столичной жизни... для тех, у кого пятьдесят тысяч годового дохода. А так ли уж трудно иметь подобный доход - ведь насупротив, из окон в окна отделение банка, а в двух шагах направо и самый банк. Да и вообще денег в столице куры не клюют.
«Здесь ничего не дают даром, это правда, но только кроме денег: их сколько хочешь, у каждой будки кучи, од на - золотых денег, другая серебряных, третья медных; кто сколько хочешь, столько и бери. Славно».
До начала экзаменов было еще далеко, но Чернышевский не переставал исподволь готовиться к ним. Впрочем, и свободного времени оставалось немало. Не прошло и двух недель, как саратовский книголюб изучил все каталоги знаменитых петербургских книготорговцев. Часами просиживал он в книжных лавках Беллизара, Смирдина, Ольхина, Ратькова.
У Беллизара один из продавцов, человек пожилой и положительный, весьма дружелюбно отнесся к Николаю Гавриловичу. Этому милому старику было что вспомнить: ему случалось видеть в лавке и баснописца Крылова, и поэта Пушкина, и писателя Гоголя...
12 июля, в день своего рождения, Чернышевский подал прошение о поступлении на первое историко-филологическое отделение философского факультета Петербургского университета. Евгения Егоровна считала, что вернее всего цель будет достигнута обходным путем: посетить профессоров, которые будут экзаменовать сына, постараться разжалобить их, объяснить, что издалека приехали, затратили большие деньги, просить о снисхождении...
Это оскорбило Чернышевского. Но он осторожно и сдержанно критиковал в письме к отцу план матушки, боясь выказать неуважение к ней... Он понимал, что не нуждается в снисхождении и в милостыне. Затрагивались его самолюбие и честь.
«Как угодно, невольно заставишь смотреть на себя, как на умственного нищего, идя рассказывать, как ехали 1500 верст мы при недостаточном состоянии, и прочее... Да едва ль и выпросишь снисхождения к своим слабостям этим; ну, положим, хоть и убедишь Христа ради принять себя, да вопрос еще, нужна ли будет эта милостыня? Ну, а если не нужна?.. А ведь как угодно, нужна ли она или нет, а прося ее, конечно, заставляешь думать, что нужна. Как так и пойдешь на все четыре года с титулом: «Дурак, да 1500 верст ехал: нельзя же...» А вероятно, и не нужно ничего этого делать. Не должно — это уже известно».
С утра 2 августа начались экзамены. Первый - по физике. На экзамене присутствовали ректор Плетнев и попечитель учебного округа Мусин-Пушкин. Экзаменовали сразу за тремя столами. Пока сидел Мусин-Пушкин, экзаменующихся вызывали по алфавитному списку, а когда часа через два он ушел, вызывать перестали, и каждый подходил сам, как на исповеди. При попечителе очередь до Чернышевского не дошла. Сильное волнение охватило скрыто самолюбивого юношу, когда он направился к среднему столу, за которым сидел пожилой упитанный немец Ленц. Но внешне это волнение, как всегда, ни в чем не проявилось. Он только чуть побледнел, рассматривая доставшийся ему билет. Ленц остался заметно доволен ответами Чернышевского.
- Очень хорошо, - сказал он в заключение. - Где вы воспитывались?
Каждый из экзаменующихся дожидался выставления при нем отметки, но Чернышевскому показалось слишком неучтивым нагибаться к самому журналу, тем более что и профессор отличался близорукостью и, проставляя отметку, низко склонился к столу.
Ободренный успешным началом, Чернышевский на другой день уверенно отвечал на экзамене по алгебре и тригонометрии. И снова был огорчен, что отметка осталась ему неизвестной.
«Просто хоть очки надевай, - писал он домой, - профессор нарочно при тебе ставит, чтобы видел, тебе ли точно поставил он, не ошибся ли в фамилии, а ты не видишь».
На экзамене по словесности саратовцу выпало написать на тему «Письмо из столицы». Аттестовано оно было высшим баллом.
К Фрейтагу на экзамен латинского он шел полный самых радужных надежд. Он мог перевести без приготовления Тацита, Горация, любого автора, мог бы свободно объясняться с профессором по-латыни, тем более что Фрейтаг плохо владел русским, и, если экзаменующийся не говорил по-немецки, профессору помогал объясняться переводчик. Тут бы и заговорить по-латыни. Но сразу не дога дался, а когда спохватился, то Фрейтаг уже занимался с другим. Только четыре!.. По-латыни, которую Чернышевский так превосходно знал!
В общем, экзамены прошли более чем удачно. Для поступления нужна была сумма баллов, равная 33. Высшее число — 55. Чернышевский набрал 49.
«Поздравляю, мой родной, с сыном студентом», - писала мужу Евгения Егоровна, собираясь отъезжать домой в Саратов.
На другой день после экзаменов были заказаны шляпа и шпага. Сначала хотели поискать в Гостином дворе по держанные, подешевле, но радость была так велика, что и расход на заказ показался законным.
Евгения Егоровна только все огорчалась, что уедет, не увидев сына в новом студенческом сюртуке. Впрочем, образчики сукон, из которых заказали шинель и сюртук, она брала с собой, чтобы отец по достоинству оценил дорогой материал. На толкучке по сходной цене купили подержанную студенческую куртку.
До самой заставы проводил Чернышевский свою мать, когда 21 августа она вместе со спутницей выехала в Сара тов через Москву.
В первый раз в жизни предстояло ему остаться одному, да притом еще в огромном незнакомом городе. Не так ощутительна была разлука с родным гнездом, пока мать еще была с ним. Теперь она уносила с собой последнее родное тепло, близость которого придавала ему силы. Но нужно было крепиться, нужно было поддержать и в ней твердость перед разлукой — и он с самым веселым лицом шутил, смеялся над тем, что матушка накупила в дорогу репы и тому подобных пустяков. Расстались гораздо спокойнее, чем он ожидал... Почти не плакали даже. Улыбаясь сквозь слезы. Евгения Егоровна обещала не тосковать дорогой, не думать много, а только молиться о нем, а на остановках в пути играть в карты с Устиньей Васильевной. А с него взяла слово, что он ежечасно будет помнить о своем здоровье.
Как и предполагалось, Чернышевский переехал в комнату к Раеву, снимавшему ее в квартире француза Аллеза, в большом многоэтажном доме на Гороховой улице, у Каменного моста.
После спокойной, размеренной провинциальной жизни в дружной семье, с ее домовитостью, уютом, хлебосольством, предстояло одинокое на первых порах и скудное студенческое существование.
Евгении Егоровне оно рисовалось далеко не в радужном свете. Ей и климат петербургский не нравился, хотя Николай Гаврилович утверждал, что он для него здоровее саратовского:
- Пустое говорят, что в Петербурге дурен климат, - конечно, не Италия, но все же хорош.
- Ну что это за жизнь, - говорила она, - тысячи пол торы населяют дом, и никто друг другом не интересуется, никто знать друг друга не хочет. Не знаешь - кто подле вас, кем вы окружены... Ни дворов, ни садиков, за каждой мелочью беги в магазин.
Утешало ее лишь то, что все-таки не вовсе один будет жить ее сын, а вместе со старшим родственником. Раев в ту пору уже кончал юридический факультет Петербургского университета. Был он суховат, сдержан, подтянут, чрезмерно расчетлив, обладал многими задатками будущего делателя трудной чиновничьей карьеры в столице.
У Евгении Егоровны эти качества Раева вызывали, по жалуй, даже уважение, но Чернышевскому они решительно не нравились. Впрочем, отступать было некуда, и он решил просто не выказывать своего нерасположения к этим чертам сожителя.
Впоследствии расхождение между ними углубилось еще и потому, что слишком различны были их убеждения.
В довольно большой комнате, занимаемой Раевым и Чернышевским, стояли два дивана, заменявшие им кровати, полдюжины стульев, старый письменный стол и небольшая этажерка с книгами.
По свойственной Чернышевскому привычке всегда изображать свое положение с лучшей стороны, он в письмах к родителям не уставал твердить о выгодах пребывания имен но в этой квартире. Во-первых, хозяин ее - француз, следовательно, можно выучиться говорить по-французски, не теряя ни времени, ни денег, подобно тому, как учился в Саратове у колониста - немецкому, а у торговца фруктами - персидскому... Во-вторых, дома, как правило, никого, кроме старой служанки, не бывает... Хозяин уходит на уроки с раннего утра и возвращается в одиннадцать вечера. Супруга его где-то гувернанткой и дома показывается только по воскресеньям. Никто не может мешать занятиям, «мы решительно целый день одни...»
На поверку впоследствии оказалось, что отнюдь не бес шумно было в этой квартире. Возвращаясь с уроков, Аллез громко пел, беспрестанно разговаривал с сыном - словом, сильно мешал своим квартирантам, а обучать их французскому языку и не думал.
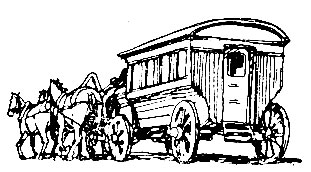
© Злыгостев Алексей Сергеевич, 2013-2018
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://n-g-chernyshevsky.ru/ "N-G-Chernyshevsky.ru: Николай Гаврилович Чернышевский"
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://n-g-chernyshevsky.ru/ "N-G-Chernyshevsky.ru: Николай Гаврилович Чернышевский"