

|
Последние годы жизни
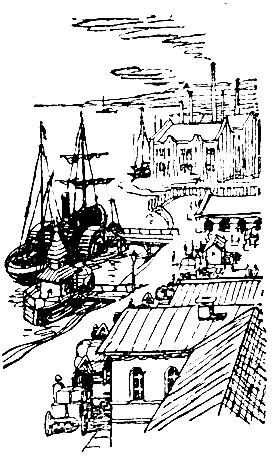
Последние годы жизни
Прошло три месяца... В конце августа 1883 года в Вилюйск прибыли два жандармских унтер-офицера с предписанием доставить Чернышевского в Иркутск. Сибирские администраторы не сочли нужным сразу же объявить Чернышевскому о том, что ему назначается новое место поселения; сенатский указ об этом остался неизвестен Николаю Гавриловичу до самого прибытия в Иркутск.
Однако, понимая, что в судьбе его наметился какой-то поворот, Чернышевский стал тотчас же торопить жандармов с отъездом: он выражал желание немедленно отправиться в путь.
Но надо было подготовиться к длительному и очень трудному путешествию, и, кроме того, жандармы хотели отдохнуть с дороги. Отъезд отложили на сутки.
В это время года не просто было выбраться из Вилюйска. Дороги проезжей не было, только верховая. Кругом топи и болота. Через речки надо было перебираться вброд на лошадях. Предстоял долгий путь верхом по узкой тропинке среди тайги. Но Чернышевский отказался ехать верхом: для него это было непосильно. Тогда решили сделать на быках качалку и, как носилки, подвязать к стременам. Он не согласился и на это, и потому пришлось везти его на санях по земле.
На одном из перегонов пришлось лошадей заменить со баками. Затем продолжали путь в крытой лодке — по-местному, шитике; ее тянули бечевой почтари — приленские крестьяне, на обязанности которых лежало «гонять поч ту» и возить за прогоны проезжающих.
В Якутске Чернышевского доставили к губернаторскому дому. Губернатор Черняев, причинявший прежде своему пленнику всевозможные неприятности, удивил его теперь гостеприимством и внимательностью. К приезду Чернышевского был приготовлен завтрак.
Но подлинный смысл губернаторского радушия раскрылся Чернышевскому при отъезде из Якутска, когда он убедился, что перед отправлением в дальнейший путь ему не позволяют задержаться в городе для отдыха и закупок. Губернатор был озабочен тем, чтобы сохранить по возможности в тайне от всех прибытие и отъезд важного «государственного преступника».
Тогда, усаживаясь в повозку, Чернышевский иронически заметил:
— Надо бы хоть к губернатору-то вернуться, рубль, что ли, ему за завтрак отдать...
Везли Чернышевского под именем «секретного преступника № 5», не сообщая ему города, назначенного для по селения.
Только когда они приехали в Иркутск, Чернышевский узнал, что его перевозят в Астрахань. Начальник иркутского жандармского управления Келер проводил Чернышевского в комнату, чтобы тот мог отдохнуть с дороги, и они разговорились.
— А могу я узнать, какой город назначен мне? — спросил Чернышевский.
— Я, собственно, не имею права сказать, — ответил Келер, — но на честное слово, что это останется между нами, сообщаю вам — Астрахань...
Радости Николая Гавриловича не было границ. Он заплакал, говоря, что вот теперь он скоро увидит жену и детей.
В эту же ночь Чернышевского отправили в тарантасе дальше. Губернаторы тех городов, через которые лежал его путь к месту назначения, получали шифрованные телеграммы высших властей о принятии необходимых мер предосторожности для предупреждения нарушения общественного порядка.
22 октября, после двухмесячного изнурительного путешествия, Чернышевский был доставлен наконец в родной город Саратов, где ему была разрешена кратковременная остановка для свидания с родными.
Привезли его вечером, опасаясь, по-видимому, каких-либо проявлений сочувствия саратовцев к их знаменитому земляку, и поместили в квартире жандармского полковника.
Семье не был в точности известен день прибытия Чернышевского в Саратов. Ольга Сократовна с необычайным волнением ждала уведомления о свидании. Еще за две не дели до выезда Николая Гавриловича из Вилюйска она писала ему в Сибирь:
«Милый ты мой. Я до тех пор не буду спокойна, пока сама не увижу тебя собственными глазами. До скорого свидания (написала это слово, а самой все еще не верится, что так будет)... Милый ты мой! Хороший мой. Крепко, крепко целую и обнимаю тебя».
Получив известие, что Николай Гаврилович уже выехал из Иркутска и находится на пути к Саратову, Ольга Сократовна писала его родным:
«Я от радости совсем с ума сошла. И так не помнила, что делаю и что надобно делать, а теперь — и подавно! Вот так бы и полетела к нему навстречу...»
Наконец долгожданный час настал. Вечером 22 октября в квартиру Пыпиных явилась горничная, спросила Ольгу Сократовну и подала ей записку. Прочитав ее, Ольга Сократовна в страшном волнении стала поспешно одеваться, шепнув Варваре Николаевне Пыпиной:
— Приехал, молчите...
Часа через два та же горничная опять вернулась с запиской, в которой приглашалась на свидание с Чернышевским и Варвара Николаевна.
Под живым впечатлением этого необычного короткого свидания с мужем на квартире жандармского полковника после почти двадцатилетней разлуки Ольга Сократовна пи сала в Петербург:
«Само собою разумеется, все побросал там и едет налегке, на перекладных. Скачет день и ночь. Казался не очень утомленным и уверял, что так и есть на самом деле.
Движения его довольно порывисты, несколько взволнован, но довольно весел... Никак не могла уговорить его остаться до пяти часов утра. Спешил, страшно спешил... «По куда, говорит, сухо да тепло, голубочка, нужно доехать».
Я встретила его молодцом: но что чувствовала тогда — того не перескажешь. А Варенька страшно разрыдалась. Насилу уняла ее. А это на него могло подействовать не хорошо. Я все время старалась быть веселой... Делаю так потому, что так нужно...»
В ту же ночь Чернышевский выехал на почтовых, уговорившись с Ольгой Сократовной, что на следующий день и она отправится в Астрахань на пароходе.
Утром 27 октября Николая Гавриловича привезли в казацкую станицу Форпост, расположенную на правом берегу Волги, напротив Астрахани. После переправы через реку на паровом баркасе он был доставлен в гостиницу, находившуюся на площади в центре города.
Астраханский полицмейстер составил рапорт о прибытии Чернышевского и о том, что полицейский надзор за ним поручен приставу и агенту Баканову, которому вменено в обязанность периодически доставлять сведения о поднадзорном начальнику астраханского губернского жандармского управления.
«При проезде Чернышевского никаких встреч и демонстраций не было»,— добавлял в заключение полицмейстер.
Наконец Чернышевский остался в номере гостиниц один, без «провожатых» — жандармы, выполнив все формальности, покинули его. Отдохнув немного, Николай Гаврилович вышел в город и направился к пристани. Он хотел встретить Ольгу Сократовну — она должна была приехать в тот же день.
Шумно и многолюдно было в этом городе, где основная масса разноплеменного населения занималась торговыми делами. Здесь жили русские, украинцы, армяне, греки, персы, татары, хивинцы.
Почти весь день провел он на пристани. Уже надвигался вечер и сгустилась темнота, когда прибыл пароход и он различил среди шагавших по трапу пассажиров фигуру Ольги Сократовны...
Прошло несколько дней. Ольга Сократовна подыскала небольшую квартиру из трех комнат на Почтовой улице. Скудно обставлено было их новое жилище — два стула, шаткий стол, диван, постели, и больше ничего.
Едва успели они перебраться на квартиру, как из Петербурга приехали сыновья. В 1862 году Николай Гаврилович оставил их детьми, а теперь Александру было уже двадцать девять лет, а Михаилу — двадцать пять. И теперь им предстояло как бы заново узнавать друг друга.
За то короткое время, что сыновья пробыли с ним в Астрахани, Николай Гаврилович не успел даже сблизиться с ними, не успел по-настоящему рассказать обо всем, что было пережито им за два десятилетия разлуки с семьей. Ему очень хотелось, чтобы и Александр и Михаил остались в Астрахани, но план совместной жизни с ними оказался, к огорчению Николая Гавриловича, неосуществимым.
И когда сыновья уехали снова в Петербург, Николай Гаврилович, делясь своими мыслями о них с Пыпиным, писал ему:
«Мое знакомство с моими детьми еще очень слабо. Они приехали сюда людьми совершенно «незнакомыми» мне. В неделю или восемь дней, которые провели они со мною, мог ли я хорошо узнать их способности? В особенности Миша, бывший все это время непрерывно занят житейски ми хлопотами, едва имел досуг раза два, три в день поговорить со мною по нескольку минут. Приехал он, незнакомый к незнакомому, и уехал почти незнакомый от почти незнакомого».
Пережитые муки не сломили его благородной гордости и большого чувства человеческого достоинства. Одной из главных его забот была теперь забота о погашении долгов близким людям, помогавшим во время ссылки Ольге Сократовне и сыновьям.
Не только близким, но и казне хотел он вернуть свой «долг». И хотя весьма скудны были его средства в первые месяцы жизни в Астрахани, он счел необходимым прежде всего обратиться к губернатору с просьбой сообщить ему, какую сумму составляют его, Чернышевского, долги казне. Он имел в виду выданную ему в Иркутске ссуду на путевые издержки и предоставление нового тарантаса от Иркутска до Оренбурга.
Николай Гаврилович вернулся из Сибири физически надломленным, больным, но вовсе не утратившим готовности работать. Он сохранил способность трудиться по целым месяцам изо дня в день, с утра до ночи, нисколько не утомляясь...
Тотчас же по приезде он готов был сесть за письменный стол и работать, пока не захочется есть, а поев, опять садиться за работу, и так до поздней ночи...
— Изнурительным, — говорил он, — был не путь из Сибири в Астрахань. Изнурительно жить без работы.
Он надеялся, что с помощью Пыпина ему удастся начать печатать беллетристические произведения в «Вестнике Европы». Память Николая Гавриловича настолько полно сберегла множество написанных еще в вилюйской ссылке и там же уничтоженных повестей и романов, что теперь он мог бы диктовать их наизусть без запинки.
Сыну Александру, у которого была большая склонность к творчеству (он писал стихи, драматические этюды), Николай Гаврилович в виде опыта в течение двух часов без перерыва рассказал первую главу одной из таких повестей.
Еще в Сибири Николай Гаврилович строил широкие планы литературных работ. Большое место в этих планах занимали беллетристические произведения. Кроме того, он предполагал осуществить издание большого сборника лучших повестей русских писателей и поэтическую антологию.
Он рассчитывал также на новое переработанное издание «Очерков политической экономии» Милля со своими обширными комментариями. Он готов был писать научные статьи для журналов по вопросам философии, истории, экономики, естествознания, языковедения. И, наконец, он намеревался переводить книги немецких и английских ученых.
Но по ответным письмам Пыпина Чернышевский понял, что издатели журналов не станут печатать его оригинальные произведения без специального разрешения властей. А начать хлопотать об этом никто не решался. Случилось так, что переводы, занимавшие в планах Чернышевского послед нее место, стали единственно реальной возможностью заработать кусок хлеба для семьи. Пыпин обещал Николаю Гавриловичу подыскать подходящие для перевода научные книги.
Что ж... На первое время он должен был удовлетвориться этой «грошовой» работой. И он садится за перевод присланной Пыпиным книги немецкого филолога Шрадера «Сравнительное языкознание», хотя отлично сознает, что она не имеет подлинной научной ценности. Чернышевского огорчало, что он невольно будет содействовать изданию подобных книг, но выбора для него не было даже и в этой области литературной работы. Приходилось утешаться тем, что имя его не будет выставлено на книге.
Нужда остро давала чувствовать себя особенно в первое время жизни Чернышевского в Астрахани. Вопрос о возможности печататься (хотя бы под псевдонимом) долго оставался неразрешенным, и это чрезвычайно тяготило Николая Гавриловича.
Но еще больше тяготил постоянный надзор полиции, не усыпная слежка за всеми его сношениями с внешним миром, хотя жили Чернышевские в Астрахани очень замкнуто и уединенно.
«Мы с папашей здесь положительно заживо погребенные, — писала Ольга Сократовна сыновьям, — жить в та ком уединении, ни с кем не видеться, ни с кем не поговорить...»
Неуютно чувствовали себя Чернышевские в чужом го роде. Семья никак не могла соединиться — в ней назревала тяжелая драма из-за душевной болезни старшего сына, Александра. Здоровье Ольги Сократовны было расшатано, она часто уезжала лечиться, и тогда Николай Гаврилович оставался один с книгами и нескончаемой работой.
Он и здесь, как в Вилюйске, чувствовал себя одиноким.
«...Я житель того самого острова, на котором благодушествовал некогда Робинзон Крузо с своим другом Пятницей. Я не лишен нежных приятностей дружбы; но все здешние друзья мои — Пятницы... мы толкуем о том, хорош ли улов рыбы, выгодны ли для рыбопромышленников цены на нее, сколько привезено хлопка и фруктов из Персии; уплатит ли по своим векселям Сурабеков или Усейнов...»
Радостными событиями в этой однообразной обстановке были редкие приезды родственников, друзей и знакомых Николая Гавриловича.
По прошествии года одному из друзей Николая Гавриловича, Захарьину, жившему в Петербурге, удалось выяснить в соответствующих инстанциях условия, на которых власти разрешили Чернышевскому литературную деятельность. Предварительная цензура и псевдоним — вот те изъятия из общего правила, с помощью которых царское правительство намеревалось обезвредить влияние опасного писателя-революционера.
В 1885 году благодаря посредничеству Захарьина книгоиздатель Солдатенков поручил Чернышевскому перевод с немецкого многотомной «Всеобщей истории» Вебера. Получение этой работы освобождало Чернышевского на несколько лет от поисков литературного заработка. Уже одно это было для него тогда большим облегчением.
Для того чтобы работа шла успешнее и быстрее, Чернышевский привлек в качестве секретаря и, как он шутя говорил, «пишущей машины» молодого человека, жителя Астрахани — Константина Михайловича Федорова.
Теперь ежедневно Николай Гаврилович поднимался в семь часов утра и уже за чаем просматривал корректуры или подлинник, а затем пять часов без перерыва диктовал. Делал он это так свободно, будто читал русскую книгу.
В час обедали. После обеда Николай Гаврилович просматривал газеты и журналы, а с трех часов снова начиналась работа над переводом, затягивавшаяся далеко за пол ночь...
Кроме работы над переводом, он писал философские этюды и статьи, развивая в них материалистические взгляды на явления природы и жизни. Много времени уделял он также подготовке обширных материалов для биографий Добролюбова и Некрасова.
Более пяти лет протекло таким образом в Астрахани. За это время родные Николая Гавриловича не переставали хлопотать о переводе его в Москву либо в Петербург, где ему легче было бы заниматься литературным трудом. Однако просьбы их оставались безрезультатными. Но в середине 1889 года удалось все же добиться разрешения на переезд в Саратов.
Незадолго до отъезда на родину Чернышевский в раз говоре с издателем Пантелеевым, посетившим его в Астрахани, сказал:
— Для меня решительно все равно, что Саратов, что Астрахань, но Ольге Сократовне, конечно, было бы приятнее жить в Саратове. Мне лично хотелось бы перебраться в университетский город, чтобы под рукой была большая библиотека; другого мне ничего не надо.
Говоря об университетском городе, Чернышевский думал, конечно, о Москве. Ему нужна была, разумеется, не только большая библиотека, он желал бы постепенно вернуть себе журнальную трибуну, взять в свои руки редактирование московского журнала «Русская мысль», чтобы про водить в нем свои идеи.
В то время как пришло известие о разрешении переехать в Саратов, Чернышевский жил в Астрахани один: сыновья были в Петербурге, а Ольга Сократовна гостила у саратовских родственников.
С помощью квартирохозяев, своего секретаря Федорова и прислуги Николай Гаврилович отправил с пароходом не обходимое имущество и 24 июня выехал сам в сопровождении полицейского чиновника. Юный секретарь Николая Гавриловича успел так полюбить его, что с радостью согласился на предложение переселиться в Саратов.
В родном городе Чернышевский не жил уже двадцать восемь лет и только мельком видел его, проезжая под кон воем в 1883 году. Многое изменилось здесь за это время. В дни его юности торговая жизнь еще только начинала по-настоящему развиваться. Теперь по всему берегу Волги тянулись пристани пароходных компаний. Многие улицы, прежде зараставшие травой, были вымощены. Выросло много новых зданий. В городе появилась конка, железная до рога соединила Саратов с Москвой и Петербургом. Неизменными остались только полуразвалившиеся лачуги на окраинах, где ютилась нещадно эксплуатируемая городская беднота.
Дом Чернышевских в Саратове был сдан в это время внаем. Квартиру в нем занимал знакомый Пыпиных и Ольги Сократовны — присяжный поверенный Токарский. Они на пожелали отказывать ему в квартире до окончания контракта, и потому Ольга Сократовна еще до приезда Николая Гавриловича сняла квартиру на Соборной улице в двухэтажном домике Никольского.
На следующий день по приезде в Саратов Николай Гаврилович посетил родной дом, в котором прошли его детство и юношеские годы. Обойдя двор, он прошел к Токарскому и, протянув ему руку, сказал: «Чернышевский». Это вышло у него так просто и непосредственно, что Токарский, заранее готовившийся встретить Николая Гавриловича словами: «Привет дорогому учителю», сразу почувствовал ненужность пышного приветствия и так же просто назвал свою фамилию.
Они вышли вместе, направляясь к дому на Соборной улице, где поселились Чернышевские. По дороге Николай Гаврилович оживленно говорил о прошлом Саратова, узнавал дома, называл имена их хозяев.
Прощаясь с Токарским, Чернышевский сказал ему, что намеревается здесь много работать, что время свое распределил по расписанию, назначив для отдыха вечерние часы — от семи до девяти, — и пригласил его заходить по чаще.
Близко общаясь с Николаем Гавриловичем и часто беседуя с ним на различные темы, Токарский вынес впечатление, что ссылка, расшатав здоровье Чернышевского, ни сколько не ослабила ни его могучего ума, ни нравственного склада. Он остался непререкаемо верен своим прежним убеждениям, ни в чем не проявляя разномыслия с тем, о чем писал в своих статьях в «Современнике».
Он часто говорил Токарскому о заветном своем желании вернуться к боевой журнальной деятельности.
Вскоре по приезде на родину Николай Гаврилович по знакомился с сотрудником местной газеты «Саратовский листок» Горизонтовым. Тот рассказал ему, между прочим, что в 60-х годах был изгнан из семинарии за вольномыслие и за чтение романа «Что делать?».
На вопрос Горизонтова, почему он не сотрудничает в журналах, Николай Гаврилович ответил, что безыдейность, разнобой и отсутствие ясной программы в современных журналах глубоко чужды ему, и добавил, что лучше уж он будет писать в местной газете о саратовской старине и о будущности Саратова.
— Но, конечно, не под своим именем, — добавил он, — чтобы не было неприятностей ни мне, ни вам.
Когда они заговорили о современных писателях, Николай Гаврилович особо выделил Короленко, предрекая ему блестящую будущность. Чернышевскому был близок демократический характер творчества и гуманизм этого прогрессивного писателя, сурово обличавшего социальные противоречия и уродливый общественный уклад царской России.
Еще живя в Астрахани, Николай Гаврилович высказывал удивление той верностью, с которой Короленко так мастерски нарисовал в рассказе «Сон Макара» тип амгинского крестьянина, потомка русских крестьян-переселенцев, уподобившегося по привычкам и образу жизни окружающему коренному населению — якутам.
— Написать так мог только талантливый человек, хорошо изучивший быт и душу якутов, — говорил он.

Владимир Галактионович Короленко заехал в Саратов
В августе 1889 года Владимир Галактионович Короленко заехал в Саратов, чтобы познакомиться с Чернышевским. Он описал потом это памятное событие, запечатлев в проникновенном очерке живые черты своего великого современника.
На первый взгляд фигура Чернышевского показалась ему совсем молодой, но, когда Короленко внимательно по смотрел на лицо, у него сжалось сердце: таким оно было исстрадавшимся и изможденным под этой прекрасной густой шевелюрой. Заметив землистый цвет лица Николая Гавриловича, Короленко понял, что желтая лихорадка, захваченная Чернышевским в Астрахани, уже делала свое быстрое, губительное дело.
Николай Гаврилович держался просто и непринужденно, был оживлен и обнаруживал в разговоре тонкость, остроумие и даже добродушное лукавство. Короленко сразу по чувствовал себя легко в обществе Чернышевского, будто они давно знали друг друга.
В одно из свиданий они стали перебирать прошлое, за говорили о Сибири, о жизни ссыльных, о тамошних жителях. И тут Короленко рассказал Николаю Гавриловичу легенду, которая уже тогда сложилась о Чернышевском в сибирской глуши, на Лене.
Легенду эту Короленко слышал от приленских ямщиков в пути, через год после того, как проследовал по Лене в Рос сию Чернышевский из Вилюйска. Ожидая на стоянке, пока прояснится погода, Короленко разговорился как-то с ямщиком возле костра.
« — Вот разве от Чернышевского не будет ли нам чего — сказал он, задумчиво поправляя костер.
— Что такое? От какого Чернышевского? — удивился я.
Ты разве не знаешь Чернышевского, Николая Гавриловича?»
И он рассказал мне следующее:
«Чернышевский был у покойного царя (Александра II) важный генерал и самый первейший сенатор. Вот однажды созвал государь всех сенаторов и говорит: слышу я — плохо у меня в моем государстве; людишки больно жалуются. Что скажете, как сделать лучше?
Ну, сенаторы... один одно, другой другое... Известно уж, как всегда заведено. А Чернышевский молчит. Вот, когда все сказали, царь говорит: «Что же ты молчишь, мой сенатор, Чернышевский? Говори и ты». — «Всё хорошо твои сенаторы говорят, — отвечает Чернышевский, — и хитро, да всё вишь не то. А дело-то, батюшка государь, просто: по смотри на нас сколько на нас золота и серебра навешено, а много ли мы работаем? Да пожалуй, что меньше всех! А которые у тебя в государстве больше всех работают — те вовсе, почитай, без рубах. И все идет навыворот. А надо вот как: нам бы поменьше маленько богатства, а работы бы прибавить, а прочему народу убавить тягостей».
Вот услышали это сенаторы и осердились. Самый из них старший и говорит: «Это, знать, последние времена наста ют, что волк волка съесть хочет». Да один за одним и ушли.
И сидят за столом царь да Чернышевский одни.
Вот царь и говорит: «Ну, брат Чернышевский, люблю я тебя, а делать нечего, надо тебя в дальние места сослать, по тому с тобой одним мне делами не управиться».
Заплакал, да и отправил Чернышевского в самое гиблое место на Вилюй. А в Петербурге осталось у Чернышевского семь сынов, и все выросли, обучились и все стали генералы. И вот пришли они к новому царю и говорят: «Вели, государь, вернуть нашего родителя, потому его и отец твой любил. Да теперь уж и не один он будет, мы все с ним, семь генералов».
Царь и вернул его в Россию, теперь, чай, будет спрашивать как в Сибири, в отдаленных местах народ живет?.. Он и расскажет...
Привез я его в лодке на станок, да как жандармы-то сошли на берег, я поклонился в пояс и говорю:
«Николай Гаврилович! Видел наше житьишко?»
«Видел», — говорит.
«Ну, видел, так и слава те господи».
Так закончил рассказчик, в полной уверенности, что в ответе Чернышевского заключался залог лучшего будущего и для них, приставленных караулить «пеструю столбу да серый камень».
Выслушав рассказ Владимира Галактионовича, Чернышевский с добродушной иронией сказал:
— А-а. Похоже на правду, именно похоже! Умные пар ни ямщики!
Поздним вечером Чернышевский проводил Короленко до ворот, и они обнялись на прощанье.
Несмотря на ухудшающееся здоровье, Николай Гаврилович по-прежнему усиленно и много работал. Перевод «Все общей истории» подходил к концу. Он намеревался, завершив этот перевод, написать две популярные книги, доступные самым широким слоям читателей: одну — по политической экономии, другую — по истории.
Мысли его часто возвращались к бурной и славной эпохе 60-х годов, когда рядом с ним в «Современнике» рука об руку работали Некрасов и Добролюбов. Николай Гаврилович свято чтил их память.
Зная, как важна для будущего история жизни и творчества этих великих деятелей русской культуры и освободи тельного движения, он хотел передать следующим поколениям все, что помнил о своих соратниках. Он торопился завершить подготовку материалов для жизнеописания Добролюбова.
— По этим материалам, — говорил он, можно будет создать одну из замечательнейших биографий не для вящего восхваления Николая Александровича Добролюбова, а для показания человечеству, как можно воспитывать в детях, или самовоспитывать в себе характер, твердый взгляд, последовательность между словом и делом.
Теперь написание этой книги облегчалось, потому что Пыпин и Антонович возвратили Николаю Гавриловичу со храненные ими бумаги, письма и дневники Добролюбова, над которыми Чернышевский работал перед своим арестом.
В 80-е годы еще жива была свидетельница расцвета «Современника» — Авдотья Яковлевна Панаева. Когда Чернышевский узнал, что она готовит к отдельному изданию свои воспоминания, он выразил желание не только содействовать ей в этом перед издателями, но и дополнить ее книгу приложениями своих воспоминаний.
Память о Некрасове по-прежнему жила в его душе. Он любил перечитывать стихотворения и поэмы творца «Русских женщин». Как-то раз, гуляя с поэтом Н. А. Пановым в Барыкинском саду на берегу Волги, Чернышевский, заговорив о Некрасове, сказал:
— Его не все из нас понимали и любили, но он-то видел нас насквозь и, ох, как понимал. Зоркое око имел покойный и был подчас немножко строптив; да ведь надо знать — что пережил... не легче, пожалуй, моей каторги. А поэт был большой, как Пушкин, как Лермонтов. Только жаль, не пройти ему теперь в народ, не пройти... Интеллигенция, молодежь его любит, многие почти наизусть знают; но кое-кто по охладел, забывать начинают.
Не беда: после оценят, да еще как. Памятник ему в Петербурге поставят, не хуже, может быть, пушкинского в Москве. И стоит он такого памятника, заслужил... На днях я перечитал его от доски до доски... Неотразим! Взять хотя бы «Последние песни». Он ведь только о себе, о своих страданьях поет, но какая сила, какой огонь!..
Недолго прожил Николай Гаврилович в родном городе. В один из ненастных осенних дней он поехал на вокзал от править в Москву свои работы и по дороге сильно простудился. Болезнь вскоре осложнилась, и в ночь на 17(29) октября 1889 года он скончался от кровоизлияния в мозг.
Весть о смерти великого писателя-революционера и ученого всколыхнула все передовое русское общество. Похороны Чернышевского вылились в широкую демонстрацию. Тысячные толпы народа следовали за гробом, утопавшим в цветах и лентах венков, привезенных делегациями из различных городов. Со всех концов России в Саратов шли письма и телеграммы с выражением глубокой скорби по поводу тяжелой утраты.
«Слава Чернышевского не умрет, — говорилось в одной из этих телеграмм, — Пока живы в русском обществе любовь к народу и стремление к справедливости».
Великая Октябрьская социалистическая революция неузнаваемо изменила облик нашей страны, воплотив в жизнь надежды, мечты и чаяния лучших сынов России. Жизненный подвиг Чернышевского — один из самых ярких примеров патриотического служения родине. Произведения его воспитывают в нас чувство любви и преданности родному народу и стране. Советским читателям, нашей молодежи, нашим учащимся особенно близок и дорог образ непреклонного борца за дело народа.

© Злыгостев Алексей Сергеевич, 2013-2018
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://n-g-chernyshevsky.ru/ "N-G-Chernyshevsky.ru: Николай Гаврилович Чернышевский"
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://n-g-chernyshevsky.ru/ "N-G-Chernyshevsky.ru: Николай Гаврилович Чернышевский"