

|
6. Дополнительное показание Чернышевского сенату от 1 июня 1863 г.
(Опубликовано М, К. Лемке ("Былое", 1906, № 4, стр. 149 -177). Подлинник: ЦГАОР, ф. 112, ед. хр. 38, лл. 16 - 27 об. Из приведенных документов видно, что Чернышевский написал "Дополнительные показания" в течение трех дней - с 29 по 31 мая.
31 мая 1863 г. Суворов писал Сорокину:
"Содержащийся в С.- Петербургской крепости титулярный советник Чернышевский, по вызове его 29 сего мая в правительственный сенат для допроса, обратился со словесной просьбой о дозволении ему подать особое объяснение по производящемуся о нем в сенате делу. Вследствие сего, согласно указу правительствующего сената, покорнейше прошу, ваше превосходительство, по изготовлении Чернышевским означенных объяснений доставить оные ко мне для предоставления в правительствующий сенат". На полях рукой Сорокина написано: "Представить в III отделение и просить разрешение, как поступать впредь в подобных случаях" (ЦГИАЛ, ф. 1280, оп. 5, хр. 104, лл. 293).)
Это показание заключает в себе шесть листов.
Общие пояснения
I. Против каждого из обвинений я выставляю такие факты, большая часть которых общеизвестна в кругу, близко знающем меня. Доказывать их теперь же ссылками на свидетелей и отысканием документов значило бы усложнять и затягивать дело. Потому беру на себя смелость оросить, чтобы правительствующий сенат принимал настоящее показание за окончательное по полноте доказательств только относительно тех из указываемых мною фактов, в верности которых не останется сомнения у правительствующего сената по выслушании настоящего показания, и чтобы правительствующий сенат предоставил мне право привести более полные доказательства на те факты, которые, по мнению сената, еще нуждаются в дальнейшем подтверждении.
II. Мне известно, что, кроме обвинений, против которых я могу теперь прямо оправдываться, потому что они прямо выражены, существовало против меня множество других подозрений. Например, были слухи, называвшие меня возбудителем беспокойств между студентами С-Пбургского университета осенью 1861 года; возбудителем беспорядка, произошедшего в зале Думы весною 1862 г. на одной из публичных лекций; были также слухи, что я направляю к пропаганде запрещенного характера Главный совет петербургских воскресных школ; что я возбудил профессора Павлова написать и при публичном чтении дополнить резкими прибавлениями ту статью, за чтение которой профессор Павлов был удален из Петербурга (весною 1862); что я даже был участником поджога Толкучего рынка (в конце мая 1862). Мне неизвестно, до какой степени продолжают существовать такие слухи в кругах, в которых они существовали год тому назад; и неизвестно, может ли иметь влияние на мнение моих судей о мне более или: менее определенный или неопределенный отголосок таких слухов,- отголосок, дававший мне прежде в мнении многих почтенных людей, не знавших меня лично, репутацию агитатора. Если может, то я прошу, чтобы мне дано было право разобрать и эти подозрения для отстранения сомнений в том, действительно ли я такой человек, за какого меня знают все, хорошо знающие меня лично; - человек очень мирного характера, всегда ставивший главною заботою своею то, чтобы удаляться всяких столкновений не только с уголовным судом, но и с простою полициею.
Выразив эти общие просьбы мои правительствующему сенату, перехожу к разбору обвинений, находящихся в деле.
1. Пояснения по обвинению меня в намерении уехать за границу, чтоб издавать журнал: вместе с Герценом
В конце мая или начале июня 1862 года было остановлено на восемь месяцев издание журнала "Современник", в редактировании которого я участвовал. Через это я приобретал на время свободу жить или не жить в Петербурге. По моим домашним обстоятельствам, мне небесполезно было переехать, на время в мой родной город, Саратов. Мое семейство уехало туда 2 или 3 июля (1862), за 4 или за пять дней до моего ареста. Мы продавали лошадей, экипажи, мебель. Отчасти для окончания этого, отчасти для окончательного приведения в порядок своих литературных дел, я должен был остаться в Петербурге еще на месяц. После того я должен был уехать в Саратов и прожить там до весны 1863 года вместе с семейством, а весною или летом 1863 г. возвратиться вместе с семейством; в Петербург.
Это предположение было известно всем моим знакомым. В. искренности его не мог сомневаться никто из знавших мои семейные чувства. Продолжительная разлука с семейством - единственное серьезное страдание, которое я могу чувствовать.
Если б я думал эмигрировать, неужели я проводил бы свое семейство в Саратов, от которого так далеко до Западной Европы, а не прямо за границу из Петербурга? Или я хотел на долгие годы разлучиться с семейством?
В моих руках бывало довольно много денег. Моя жена, уезжая, взяла с собою только 500 р. А мы привыкли расходовать довольно много. Если б я думал, что моей жене придется долго жить без меня в Саратове, неужели она уехала бы из Петербурга с 500 рублями?
При отъезде моя жена не получила от меня доверенности на заведывание моим домом в Саратове. Из этого вышли серьезные домашние неприятности для нее. По характеру ее прежних отношений к моим саратовским родным я не мог не ждать этого в случае, если б ей пришлось долгое время оставаться в Саратове без меня. Если б я думал надолго разлучиться с нею эмигрированьем, неужели я не дал бы ей доверенности, которую при первой возможности поспешил дать, когда был разлучен с нею арестом?
Когда меня арестовали, у меня было только 115 р. А в не сколько предыдущих дней я получил до 1500 р., или более. Но я отдал из них 300 p. типографщику, 200 р. торговцу бумагою, остальные роздал сотрудникам "Современника". Мне не было настоятельной нужды делать ни одной из этих выдач: бумажный торговец и типографщик могли ждать, сотрудники "Современника"- обратиться за деньгами в контору журнала, вместо которой я заплатил им. Так ли распоряжается деньгами тот, кто собирается эмигрировать?
Сборы моего семейства к отъезду, продажа вещей,- все это делалось длинно, со всею обычною хлопотливостью таких перемен. Надеюсь, что если б я думал эмигрировать, то у меня достало бы смысла и уменья, чтоб уехать, не подав ни малейшего знака намерения двинуться куда бы то ни было из Петербурга,- быть далеко за Берлином или Стокгольмом прежде, чем кто бы ни было подумал бы, что я думаю уехать дальше Павловска, где была у меня дача.
Я был арестован в субботу (7 июля); в понедельник (9 июля) должен был прийти ко мне из типографии Вульфа наборщик (бывший помощником метранпажа по "Современнику") с образцами формата и шрифта для издания, которое я хотел начать печатать дня через 3, 4 после того. Я поручил ему сделать образцы в то самое утро, как был арестован, или накануне. Фактор другой типографии (г. Огризко) имел поручение поскорее сделать для меня образцы шрифта и формата для другого издания у Вульфа, я хотел печатать маленькие книжки, в которых думал, с разрешения авторов, перепечатывать понятные для простого народа рассказы и отрывки из повестей. У Огризко я хотел печатать перевод Политической экономии Милля, который был уже окончен мною.
Эти два издания должны были начаться через несколько дней - 12 или- 15 июля. Еще недели две, три понадобилось бы мне оставаться в Петербурге, чтоб устроить правильность в чтении корректур, цензированьи и т. п. Устроив это, я тотчас отправился бы в Саратов. Но я предполагал очень быстро начать другие издания, из которых назову три. Я тогда уже имел столько известности, что публика стала бы покупать "собрание" моих "Сочинений". Они составляют массу более 8000 страниц (500 печатных листов в - 8) журнального формата. Я хотел многое выбросить, как не важное, другое сократить,, но все-таки оставалось бы листов 300 печатных. Печатание такого огромного числа листов заняло бы много времени. Я рассчитывал сделать это года в два. Но, во всяком 'случае, нельзя напечатать такую массу в 3, в 4 месяца. И потом, ведь не могло же издание, которое хотел я сделать в 4 или 5 тысячах экземпляров, распродаться в какой-нибудь год. Следовательно, уж это одно издание связывало меня с Россиею не на один год. А я рассчитывал, что оно даст мне несколько десятков тысяч рублей,- это не такой расчет, которым мог бы пренебречь человек без состояния для удовольствия издавать журнал за границею. Но, отнимая у меня всякую мысль об эмиграции, это издание не стоило бы мне почти никакой работы. Печатая его, я хотел готовить два другие. Я хотел составить два ручные энциклопедические словаря. Один - в два тома лексиконного формата, ценою от 7 до 10 р.; другой - вовсе маленький, страниц в 600 или 700 в 12 долю, ценою рубля в полтора, два. Книгопродавцы знают, что такие книги такой цены имели бы большой успех и, постоянно перепечатываясь, служили бы; источником очень порядочного дохода на долгие годы. Я называю только эти три издания, потому что могу указать в моих бумагах расчеты, сделанные для них.
Эти расчеты свидетельствуют, что я не думал о себе иначе как о человеке, по крайней мере на несколько лет остающемся в России.
Я перечислил некоторые из фактов, показывающих, что я не думал эмигрировать. Есть другие, свидетельствующие, что я не мог, положительно не мог эмигрировать.
Я уже привык получать и проживать много. Я имел тысяч 10 в год, и больше. Но я проживал все деньги, которые получал. Дом в Саратове и кусок земли в Аткарском уезде, доставшиеся мне по наследству,- имущество слишком незначительное для человека, привыкшего иметь такие деньги от своей работы. Я оставлял и намерен был оставлять это имущество и доход с него во владении моих саратовских родственников. Но если б я для эмиграции изменил свою мысль и продал его (к чему не делал никаких приготовлений), все-таки оно не дало бы мне возможности жить за границею. По особенности моего образования, я, читая книги на главных европейских языках, решительно не умею, до замечательной странности не умею, ни говорить, ни тем более писать ни на одном из них. Следовательно, я не мог очень долго, по крайней мере несколько лет, сделаться французским, немецким или английским литератором. А писать за границею на русском языке вещи, не пропускаемые на открытую продажу в России, значит не получать почти никакого дохода от своей работы. Итак, эмигрировать - значило бы для меня обрекать свое семейство на великие страдания от нужды. Надеюсь, кто знает меня, тот не усомнится, что мысль об этом не могла быть для меня слишком привлекательной.
Или не хотел ли я уехать по опасению ареста? Я слишком давно, слишком много слышал от других опасения, что меня арестуют. Если б я считал возможным, что сбудутся эти опасения, и если б хотел избавиться от этой боязни эмиграциею, то, конечно, не стал бы ждать июля 1862, а уехал бы в сентябре 1861 года. Но кто знает меня, тот знает, что я смеялся над опасениями других, будто меня могут арестовать. Я подробнее говорю об этом в письме к его светлости с.- пбургскому генерал-губернатору от 20 или 22 ноября и ссылаюсь на это письмо в дополнение настоящего моего показания.
Я не думал, я не предполагал нужды думать, я не имел возможности думать об эмиграции. Но если б я мог и хотел эмигрировать, то Герцен менее всех литераторов целого света мог представляться мне товарищем в издании журнала. На это много причин.
В письме моем к его величеству я привел и в письме к его светлости г. с.- пбургскому генерал-губернатору изложил подробнее две из причин, отчуждавших меня от Герцена. Я не одобрял некоторых планов Герцена, известных мне по слуху (о чем говорится в его письме, находившемся в моих бумагах), и имел личное неудовольствие на него по процессу г-жи Панаевой из-за векселей и именья покойной г-жи Огаревой. Ссылаюсь на эти письма (от 20 или 22 ноября прошлого года) в пополнение моего настоящего показания. В них я представлял только две причины, как почти не требовавшие поверки. Здесь приведу еще две, поверка которых незатруднительна.
Первая из них - моя чрезвычайно сильная привязанность к покойному Николаю Александровичу Добролюбову и дурные отзывы о нем Герцена, начинающиеся с весны 1859 года, когда в № 45 или 47 "Колокола" была напечатана обидная для Добролюбова (и для меня, но о себе я не говорю) статья Герцена "Very dangerous!!!". Этих отзывов о Добролюбове я не мог извинить Герцену никогда, а тем более после смерти Добролюбова. Когда я потерял Добролюбова (в ноябре 1861), неприязнь к Герцену за него усилилась во мне до того, что увлекла меня до поступков, порицаемых правилами литературной полемики, не дозволяющей бранить того, кого не мог бы похвалить, если бы захотел. Я печатно выражался о Герцене оскорбительным для него образом. Укажу для примера на выражение мое о нем в одной из первых книжек "Современника" за 1862 г., в статье, которою начал я биографию Добролюбова. Это было напечатано мною около того времени, когда я, говорит обвинение, будто бы собирался вступать в товарищество с Герценом. Эта моя резкость наделала тогда довольно шума в нашей литературе; и вообще, в последнее время перед моим арестом литературный мир очень хорошо знал мою неприязнь к Герцену. На это есть печатные указания в русских периодических изданиях. Для примера укажу на "С.-Петербургские ведомости" первой половины 1862 года*.
* (В изложении причин, исключающих его сотрудничество с Герценом. Чернышевский допускает ряд фактических неточностей, явно стараясь сгустить краски при описании своей неприязни к издателю "Колокола". Остро полемическая статья Чернышевского, направленная против герценовской концепции исторического развития России, называлась "О причинах падения Рима" и была напечатана в майском номере "Современника" за 1861 г. О ней Герцен действительно узнал из фельетона Н. Воскобойникова "Журнальные заметки", помещенного в "С.- Петербургских ведомостях". Опубликован он был 1 июня 1861 г. в 144 номере газеты. Герцен ответил Чернышевскому статьей "Repititio est mater studiorum" ("Колокол", 1861, 15 сентября, л. 107).
Не совсем ясно, на какую статью о Н. А. Добролюбове ссылается Чернышевский в оправдательном объяснении. Заметим попутно, что, упоминая инцидент со статьей Герцена "Very dangerous!!!", Чернышевский умалчивал о своей поездке в Лондон. Долгоруков знал о ней, однако следователи почему-то прошли мимо этого факта.)
Но, кроме политических причин несогласия и кроме личной неприязни, существует еще одно обстоятельство, по которому я никак не мог думать о товариществе с Герценом. Я привык быть полным хозяином направления журнала, в котором участвую. Я могу уступить своему товарищу всю денежную часть, оставив на его волю помещение безразличных по своему содержанию повестей, но направление журнала должно быть безусловно мое. С Герценом это было бы невозможно. Он не только стал бы спорить со мною о чужих статьях, но стал бы требовать, чтоб я поправлял по его замечаниям свои статьи. А я не только не мог бы допустить такого вмешательства, а сам потребовал бы от него безусловного подчинения себе, то есть вещи невозможной. Кто не знает, что непременно я хочу быть безусловным хозяином направления журнала, в редакции которого участвую, тот не знает меня. А при этом мысль о моем товариществе с Герценом - нелепость.
Натурально после этого, что я был до крайности удивлен, услышав на допросе 30 октября, что я обвиняюсь в сношениях с Герценом, и почел этот вопрос сделанным без всяких оснований. Но еще более был я изумлен, когда на первом из двух допросов, бывших в марте, сообщили мне, что существует письмо, выражающее согласие Герцена на то, чтоб издавать журнал со мною. Кем придуман такой невозможный для меня проект, я не постигаю. Но если еще остается какое-нибудь подозрение в том, что я имел это намерение, то я прошу, чтобы правительствующий сенат разрешил мне принять для исследования этого странного случая те меры, какие могут быть допущены по закону.
2. Объяснения по вопросу о мнимом шифре, найденном у меня
Эти картонные лоскутки исписаны буквами и цифрами почерка моего родственника, Алексея Осиповича Студенского, который теперь, вероятно, находится в Петербурге, и адрес которого, вероятно, известен моему двоюродному брату Александру Николаевичу Пыпину, живущему у Владимирской, в Свечном переулке, в доме Тулякова № 43 (А. Н. Пыпин).
Уезжая в Саратов, за несколько времени перед моим арестом, г. Студенский принес мне на сохранение зеленую папку со своими бумагами и положил или на окно моей комнаты, или в нижний ящик стоявшего в ней шкапа с книгами,- не припомню в точности. Я, разумеется, и не дотрагивался до этой папки. Вероятно, в ней нашлись эти картонные лоскутки. Что это за игрушка, вероятно, объяснит г. Студенский. А я делаю такое предположение, за удачность которого, впрочем, не ручаюсь.
Незадолго перед моим арестом были совещания людей, занимающихся русскою грамматикою (кажется, в зале 2-й гимназии), об улучшении русской азбуки и орфографии. Г. Студенский был очень заинтересован этим предметом и занимался лексикографическим и этимологическим разложением русских слов на их составные части; я думаю, не сделал ли он эти картонные лоскутки для пособия себе в таком занятии. А, впрочем, не решаю, угадал ли я.
Я не обратил на них большого внимания, когда мне показывали их, думая, что сама комиссия почтет удобным оставить без внимания эту игрушку. Но если не обманывает меня память, лоскутки исписаны так: по краю лоскутка с начала строки идет ряд цифр, от 1 до 36 'или 35, а подле цифр написаны буквы русской азбуки. Если б это был шифр, этот шифр принадлежал бы к такой системе: каждой букве соответствует одна нифра (от 1 буквы до 9-й) или 2 цифры (от 10 буквы до конца азбуки); знак каждой буквы (одну цифру или две) надобно ставить отдельно от предыдущего и последующего знака, потому что иначе нельзя было бы различить, где брать две цифры за букву, где одну, и сам писавший не мог бы разобрать того, что написал, и никакой ключ не помог бы путанице. Поясню это примером. Пусть будет
а - 1 б - 2 л - 12;
тогда, если написать сплошь 1212, нельзя будет имеющему ключ шифра знать, как прочесть это: абл, или лаб, или абаб, или лл. Потому необходимо писать врознь,- так:
1 2 12 - это будет абл 12 1 2 - лаб 12 12 - лл.
Но все шифры такой системы (для каждой буквы особый знак, и знак каждой буквы ставится особо от предыдущего и последующего) уже чересчур просты. Я никогда не занимался искусством дешифровки, но берусь в один вечер найти ключ к отрывку, писанному каким бы то ни было шифром этой системы. А кто занимался дешифровкою, вероятно, найдет ключ в полчаса. Если б я имел надобность или охоту придумывать или употреблять шифр, то, надеюсь, у меня достало бы смысла понять, что шифр такой системы слишком плох, и достало бы ума придумать шифр получше.
Прибавлю: я не такой невежда, каким предполагает меня это обвинение. Из чтения гражданских и политических и неполитических уголовных иностранных процессов мне известно, что употребление какого бы то ни было шифра признано вещью устарелою, неудобною для тайных сношений и слишком опасною для сносящихся. И если б я хотел иметь с кем-нибудь тайные письменные сношения, то уж наверное не выбрал бы средством для них не только такой младенческой системы шифра, какую давали б эти лоскутки, когда бы служил для шифрования, но и никакой системы шифра.
3. Пояснения по показаниям г. Костомарова всем вообще
Я не юрист; потому прошу правительствующий сенат быть снисходительным, если в этом отделе моего дополнительного показания беру предмет, который по обычаям нашей судебной практики должен быть предметом моих ответов не теперь, а в каком-либо последующем периоде моего процесса. Следственная комиссия не опрашивала меня, имею ли я причины отвода против г. Костомарова. Я не знаю, должен ли быть предложен мне этот вопрос; если нет, то вновь прошу снисходительности правительствующего сената к той погрешности, что утруждаю сенат разбором вопроса, не подлежащего моему ответу. Наконец, что касается самой сущности предъявляемых мною оснований отвода, вновь прошу снисходительности правительствующего сената в том случае, если причины эти неудовлетворительны: я никак не хотел бы приводить законов, не подходящих к делу, но по недостатку специального юридического знания могу ошибаться.
Мне кажется,- не знаю, основательно ли,- что г. Костомаров подходит или под какой-либо, или под некоторые из следующих законов -
Св. зак. т. XV кн. 2 ст. 216 п. 1 -"Не допускаются в деле уголовном к свидетельству под присягою 1) лица, прикосновенные к делу".
Г. Костомаров есть лицо, прикосновенное к делу, если не сделал своих показаний против меня при самом начале следствия над ним; по статье (того же тома той же книги) 596:
"Всякого состояния люди обязаны доносить о делах, касающихся до преступлений государственных, означенных в статьях 275 - 280 и 282 - 287 Уложения о наказаниях, под опасением за недонесение наказаний, определенных за сие в статьях 277, 279, 281-286 и 288 того же Уложения", и статьи 17 Уложения о наказаниях: "Прикосновенными к преступлению считаются и те, которые, знав об умышляемом или уже содеянном преступлении и имев возможность довести о том до сведения правительства, не исполнили сей обязанности".
Если же г. Костомаров сделал свои показания против меня при самом начале следствия над ним, то я прежде допущения показаний г. Костомарова за обвинения, подлежащие судебному рассмотрению, в настоящее время должен просить правительствующий сенат, об исследовании вопроса: почему при существовании таких показаний я не был призван к суду или какому-либо ответу в последнюю половину 1861 года, когда производилось следствие над г. Костомаровым.
Или, быть может, г. Костомаров подходит под пункт 2-й той же 216 статьи XV тома 2 ч.:
"Не допускаются в деле уголовном к свидетельству под присягою 2) имевшие с ним (подсудимым) вражду",- мне казалось бы, что он подходит под этот пункт на основании фактов, которые я излагаю ниже.
Если же г. Костомаров подходит под какой-либо из этих законов, то мне казалось бы, что мне нет нужды и входить в разбор его показаний, на основании Св. зак. т. XV кн. 2 ст. 334: "Показания свидетелей вовсе не имеют силы доказательства 1) когда они учинены без присяги".
Перехожу к пояснению моих отношений с г. Костомаровым.
Я был внимателен, могу сказать: добр к нему. Не скрывается ли в этом нечто особенное? Да, скрывается, или, вернее сказать, обнаруживается особенность моего характера, доходящая до такой крайности, которая служит предметом всеобщих насмешек в кругу моих знакомых, источником бесчисленных хлопот и неприятностей для меня: трудно найти человека, который не получил бы от меня всякой возможной услуги и помощи, кто бы ни был этот ищущий ее у меня,- знакомый или незнакомый, все равно. Как писатель, я известен крайнею жесткостью,- в частной жизни я страдаю противоположным недостатком.
Но, кроме этой особенной, была другая, самая обыкновенная причина моей внимательности к г. Костомарову. Я был журналист. Всякий неглупый журналист знает, что должно быть внимательным к молодым, начинающим литераторам, потому что из них выходят свежие силы, а без внимательности к ним журнал хилеет и падает. Поэтому я, для собственной выгоды, всегда был внимателен к начинающим литераторам, высматривая, не окажется ли кто из них хорошим работником. Люди, более меня зоркие, умеют скоро различать, годится или не годится молодой человек в сотрудники журнала. Мне нужно всматриваться долго. И я все еще только всматривался в г. Костомарова, не решаясь предложить ему работать в "Современнике", пока получше не узнаю его способностей. (Быть может, не лишнее объяснить, что сотрудничество, постоянное участие в собственно журнальной работе, в так называемых текущих статьях, вовсе не то, что печатание стихов в журнале.)
В таких отношениях я был с десятком начинающих литераторов. Г. Костомаров был не исключение, а подходил под общее правило. Для г. Костомарова я делал даже гораздо меньше, чем для многих других.
Эта необходимость быть внимательным и оказывать возможные услуги еще вовсе не составляет интимности и не свидетельствует о доверии. Это просто то, что наниматель на работу высматривает хороших работников между людьми, ищущими работы. С г. Костомаровым я был менее короток, нежели бывал со многими из начинающих литераторов. Что действительно не был я с ним короток и почему не был, это будет видно из следующих пояснений.
Но я действительно был внимателен к нему. Например, он стал говорить, что хочет издать поэтическую хрестоматию; я отдал ему сборник подобного рода, валявшийся у меня уже несколько лет и ненужный мне. Он принял за большую услугу подарок этой вещи, не пригодной мне ни на что, и просил позволения написать в предисловии, что хрестоматия, которую он сделает на основании этого сборника (уже устаревшего и потому требовавшего большой переделки), составлена по моим советам. Когда он вздумал издать перевод "Истории литературы" Шерра, я на его просьбу помочь отвечал, что беру цензурные хлопоты и печатание на себя. То и другое не было для меня важностью. Цензор был всегда готов по моей просьбе прочесть рукопись поскорее; типография Вульфа и бумажная лавка (бывшая) Заветного имели текущий счет и кредит с конторою "Современника". Но для г. Костомарова была важна услуга, которая не стоила мне ничего.
По возвращении моем (в сентябре 1861) из Саратова в Петербург, когда г. Костомаров был уже арестован, я перестал делать для него что-либо и между прочим отказался печатать перевод Шерра. Кто хочет объяснить это только в невыгодную для меня сторону, легко найдет две причины перемены. Возвратившись из Саратова, я узнал, что мой двоюродный брат, г. А. Пыпин, взял на себя редакцию другого перевода той же книги Шерра; натурально предположить, что я не хотел мешать успеху издания, в котором работал мой родственник. Этим, кажется, достаточно объясняется отказ мой печатать перевод г. Костомарова. А вообще, у меня, как у журналиста, исчезла причина внимательности к г. Костомарову: даровитый он был человек, или нет, все равно, он надолго лишался способности быть полезным для журнала. Я не имею права требовать, чтобы мою перемену приписывали побуждениям более благородным.
Но от чего бы ни произошла перемена, г. Костомаров увидел, что ошибся в расчетах на мою помощь, и это очень раздражало его против меня. Я говорю о факте очень известном, утверждая, что он был очень раздражен против меня.
В то время, когда производилось дело г. Михайлова, носились слухи, что у г. Костомарова найдено воззвание к барским крестьянам или два какие-то воззвания; что по судебному исследованию найден был автор этой рукописи или этих рукописей. Если какой-либо из этих слухов основателен, то мне нет надобности доказывать, что воззвание к барским крестьянам писано не мною. На очной ставке со мною при втором из допросов, сделанных мне в марте, г. Костомаров упомянул, что это воззвание (или эти два воззвания) признано (или признаны) по суду за написанные им, г. Костомаровым. Но, хотя эти слова его и совершенно в мою пользу, я не ссылаюсь на них, как на что-либо достоверное, потому что вообще в словах г. Костомарова слишком много неточностей: я только прошу о поверке этих его слов справкою с его делом.
Прибавлю: носились слухи, что г. Костомаров в продолжение своего процесса переменял свои показания и постепенно дошел в них до таких странностей, что Следственная комиссия, производившая его дело, перестала принимать его показания к сведению. Этот слух также требует поверки справкою с делом г. Костомарова.
Вообще, справка с делами г. Костомарова и г. Михайлова должна объяснить много вопросов, решение которых, каково бы оно ни было, непременно устраняет обвинения против меня, извлекаемые из показаний г. Костомарова. Из этих вопросов в предыдущем изложении фактов уже являлись следующие: когда и как даны показания г. Костомарова (если давно, я устраняю их как уже отвергнутые судом; если недавно, я устраняю их, как показания лица, лишившегося способности быть свидетелем); переменял ли г. Костомаров свои показания или нет (если переменял, они теряют силу доказательств по взаимному противоречию; если не переменял, то, значит, они признаны за основательные судом, не призывавшим меня к ответу); открыт ли судом автор рукописи (или рукописей), найденных у г. Костомарова (если открыт, мне не в чем оправдываться; если нет, то одно из двух: г. Костомаров знает или не знает его; если знает, он неспособен быть свидетелем, как лицо, бывшее укрывателем; если не знает, его показания против меня неосновательны). Другие вопросы, требующие справки с делами г. Костомарова и г. Михайлова, будут представляться в последующем изложении фактов.
Сделав эти пояснения, относящиеся ко всем обвинениям против меня, извлекаемым из показаний г. Костомарова, перехожу к разбору каждого из этих обвинений в отдельности, повторяя, что по предыдущим объяснениям мне кажется, что я имею право отвергать их без всякого разбора, как незаслуживающие судебного рассмотрения, и прося снисходительности правительствующего сената к моей ошибке, если, не будучи юристом, ошибаюсь в этом моем мнении.
4. Пояснения по показанию г. Костомарова, будто бы я читал ему и г. Михайлову "Воззвание к барским крестьянам" как написанную мною вещь
Г. Костомаров (зимою 1860-61 года) однажды вечером приезжал ко мне с г. Михайловым. Когда меня спрашивали при следствии, где я видел г. Костомарова в первый раз, я не мог ручаться за то, что он когда-нибудь прежде этого не видел меня в лицо или не был в одних комнатах со мной. Человек, который по своим занятиям постоянно видит новые лица, часто и не говорящие ему своей фамилии, из авторского самолюбия, чтобы не осталось у журналиста связанного с фамилиею воспоминания о какой-нибудь плохой отвергнутой им повести или статье,- такой человек не может ручаться за то, когда именно видел его кто-нибудь в первый раз. Приведу факт из своей жизни. Г. Краевский и г. Некрасов поступили бы очень опрометчиво, если бы сказали перед судом, когда виделись со мной в первый раз. Без сомнения, каждый из них очень хорошо помнит, когда я был у него в первый раз в 1853 году, с которого начались наши литературные отношения. Но я видел того и другого несравненно раньше. Г. Краевскому я отдал (лично, в тогдашней конторе "Отеч. записок") перевод биографии г-жи Ментенон из фельетона Journal des Debats, в июле или августе 1846 года; и г. Краевский был так мил, что говорил со мною довольно долго и очень ласково; но перевод мой не годился для журнала. Он очень удивится, когда я напомню ему это обстоятельство. Точно так же удивится г. Некрасов, когда я скажу, что в конце 1847 года или в начале 1848 года, я видел его и сказал с ним несколько слов в тогдашней конторе "Современника", отдавая ему написанную мною тогда повесть (содержание которой были несчастия сироты-девушки, воспитывавшейся в институте и потом попавшей в дурные руки),- повесть, которая тоже оказалась не заслуживающею печати. Конечно, я не напомнил ни тому, ни другому об этих свиданиях, когда начинал знакомство с ними через несколько лет, и был очень рад, что они совершенно забыли о них и встретили меня, как человека, никогда еще не виданного ими.
Но когда мне сказали, что г. Костомаров говорит, что не видел меня до своего приезда с г. Михайловым ко мне, то я полагаю, что это правда; по крайней мере, это согласно с моими собственными воспоминаниями. И когда теперь мне известно, что под первым свиданием моим с г. Костомаровым разумеется приезд г. Костомарова с г. Михайловым ко мне, то я могу объяснить, как это произошло.
В ту зиму (1860-1861 года) г. Михайлов бывал у меня довольно редко, почти всегда только по утрам на короткое время по делам "Современника", корректуры которого тогда читал он. Но он знал, что мои знакомые собираются у меня сидеть вечера по средам. И вот в одну среду вечером он приехал ко мне с молодым человеком в уланском мундире и рекомендовал его мне как г. Костомарова, литератора. Когда они приехали, у меня уже находилось, когда они уехали, у меня еще оставалось несколько человек гостей. Я встретил г. Михайлова и г. Костомарова в зале, где сидел с гостями, и новые два сели в кругу прежних. Через несколько времени г. Костомаров сказал мне, что хочет поговорить со мною наедине; это очень обыкновенная вещь у литераторов, журналисты привыкли слышать такие желания и исполнять их: литературные дела так близко касаются авторского самолюбия, что о них очень часто говорят наедине. Я ждал обыкновенного для журналистов объяснения о литературных намерениях, просьб о советах по каким-нибудь стихотворениям или повестям и пошел с г. Костомаровым - одним им - в мой кабинет. Г. Михайлов оставался в зале с другими гостями и не входил в кабинет. Все время нашего отсутствия он оставался безвыходно в зале. Через несколько времени я и г. Костомаров возвратились в зал. Это факты, виденные моими гостями в ту среду.
Г. Михайлов привез ко мне г. Костомарова в такой вечер, в который у меня бывали гости. Из этого я вывожу, что, привозя ко мне г. Костомарова, он не имел никакой тайной цели. Для тайных разговоров не выбираются вечера, когда у хозяина собираются гости.
Мой разговор с г. Костомаровым в кабинете весь, с начала до конца, происходил наедине. Г. Костомаров очень неудачно ввел в свое показание обстоятельство, неточность которого я в состоянии доказать. Так как в этом обстоятельстве,- присутствии г. Михайлова,- не было ему надобности для его целей, то из этого я вывожу, что его воспоминания очень сбивчивы.
Итак, наш разговор с г. Костомаровым в моем кабинете происходил совершенно наедине, как очень часто происходят разговоры журналиста с литератором,- и без особенного случая я не мог бы доказать, что содержание этого разговора было вовсе не таково, как говорит г. Костомаров. Но, к счастью, через несколько дней после того произошел следующий случай. У г. Некрасова был обед. Я и г. Михайлов находились в числе гостей. За обедом г. Михайлов обратился ко мне с укоризнами в том, что я охлаждаю молодых людей и что я возбудил этим неудовольствие г. Костомарова, который говорил ему (г. Михайлову), что разговор его (г. Костомарова) со мною в кабинете показал ему (г. Костомарову) во мне апатического человека, желающего, чтоб и все другие были, подобно мне (т. е. мне, Чернышевскому), апатичными гражданами, не думающими об общей пользе, заботящимися только о своих семейных делах. Г. Михайлов осыпал меня этими укоризнами почти с самого начала до самого конца обеда, довольно продолжительного. Он сидел довольно далеко от меня (я сидел на одной из узких сторон стола, г. Михайлов - близко к другой узкой стороне стола), так что он говорил со мною через весь стол, говорил громко и с жаром, заглушая разговоры между собою других обедавших, которые скоро почти все или все перестали говорить между собою, слушая наш разговор, состоявший из длинных горячих нападений Михайлова на меня и моих коротких холодных или шутливых ответов.
Это последствие моего разговора с г. Костомаровым показывает, что этот происходивший между мною и им наедине разговор имел с моей стороны направление и содержание прямо противоположное тому, что утверждает г. Костомаров.
Мне кажется, что я могу теперь ожидать веры в следующее мое показание о действительном содержании этого разговора. Вот оно. Г. Костомаров, начав речь с Сборника переводных стихотворений, который он издавал тогда, перешел к обыкновенным жалобам литераторов на цензуру, а от них начал было переходить к тому, что вообще дела у нас в России идут плохо, но на этом совершенно еще неопределенном периоде его слов я остановил его шутливым вопросом, велико ли у него состояние, когда он служит репетитором в одном из московских кадетских корпусов,- я привык находить, сказал я, что между преподавателями кадетских корпусов нет людей очень богатых (о том, где он служит, я спрашивал у .него прежде, когда мы сидели в зале).- "Никакого состояния, кроме маленького, разваливающегося домика у моей матушки".- Ах, у вас есть матушка?- спросил я иронически.- "И сестры",- отвечал он.- Вот как, у вас есть матушка и сестры,- сказал я с еще более горькой иронией,- и, вероятно, живут доходами с этого разваливающегося домика?- "Нет, какой же с него доход",- отвечал он уныло,- "я содержу их своею работою и жалованьем".- А когда так,- сказал я серьезным тоном,- то вам следует думать не о том, хорошо или дурно идут дела в России, а о вашем семействе, которое вы обязаны содержать вашими трудами,- сказав несколько слов на эту обыкновенную тему обыкновенным тоном людей, успевших поостыть и читающих по всякому малейшему поводу нотации молодым людям о семейных обязанностях и рассудительности,- я встал, и мы возвратились в зал.
Я перервал г. Костомарова так рано, что он не только не успел дойти до каких бы то ни было намеков о каких-нибудь тайных своих делах, но и не успел сказать ровно ничего особенного; немногие слова, которые успел сказать он о плохом, по его тогдашнему мнению, ходе дел в России, были так неопределенны и бледны, что показались мне не больше, как попыткою того, что называется "полиберальничать",- обыкновенной) замашкою очень многих, скучною для меня.
В горячих укоризнах, деланных мне г. Михайловым за обедом у г. Некрасова, также не было ничего такого, что могло бы возбудить во мне предположение о каких-нибудь тайных делах или намерениях г. Михайлова или г. Костомарова. Это само собою следует уже из того, что он говорил при нескольких лицах, открыто, громко. Я знал г. Михайлова за человека пылкого, но очень мало занимающегося политическими вопросами,- да и разгорячился тогда он вовсе не по какому-нибудь политическому вопросу, а из-за того, что я назвал бездарным стихоплетом г. А. Майкова (известного поэта),- г. Михайлов вспыхнул, начал говорить, что у меня нет эстетического чувства, что я унижаю искусство, отвергаю поэзию, отвергаю все высокое и благородное, что мой взгляд холодит, леденит все благородные порывы,- вот каким рядом мыслей дошел он до того, что я охолодил и тем рассердил г. Костомарова,- и по этому слова г. Михайлова в своей неопределенности не имели никакого политического смысла.
Но если не было ничего замечательного в содержании слов г. Михайлова, то все-таки ведь они говорились в укоризну мне,- это была сцена, неприятная для меня: полчаса слушать брань на себя,- хотя и от доброго знакомого,- это такой случай, на который не стоит сердиться, но который невольно запоминается с обстоятельствами, к которым он относится. Вот причина, по которой врезались в моей памяти черты моего разговора с г. Костомаровым.
Но сам по себе этот разговор не был важен; да и весь вечер, проведенный у меня г. Костомаровым вместе с г. Михайловым, тоже не был важен; вот объяснение тому, что у г. Костомарова осталось слишком слабое воспоминание об этом вечере и этом разговоре, так что, делая показание, он не мог сообразить, что вводит в него такую черту, неточность которой я могу доказать,- то есть мнимое присутствие г. Михайлова при нашем разговоре.
У меня никогда не было никакого разговора втроем с г. Костомаровым и г. Михайловым без других свидетелей. Я видел г. Михайлова и г. Костомарова вместе только один раз, и в этот раз г. Михайлов не выходил из моего зала, где сидел с другими моими гостями.
Г. Костомаров ввел в свое показание другое обстоятельство, которого не вздумал бы утверждать при близком знакомстве с моими привычками. Он говорит, будто я читал ему и г. Михайлову вещь, написанную мною. Всякий близко знающий <меня> знает, что это - нравственная невозможность. Я никогда не читаю никому что бы то ни было написанное мною. Этот обычай столь же чужд мне, как танцеванье балетных танцев и собиранье милостыни под окнами. Автор только по одному из двух следующих побуждений читает кому-нибудь что-нибудь написанное им: или из авторской любви к написанному, когда дорожит тем, что написал; или по авторской скромности, чтобы просить замечаний, советов. Но всем моим хорошим знакомым известно, что в моих глазах не имеет никакой важности ничто из того, что я пишу. Быть может, когда-нибудь я напишу что-нибудь, чем буду дорожить; но это будет не политический памфлет, а большое философское сочинение. А все, что я писал до сих пор, я считаю ничтожным для себя. Я, как литератор, чрезвычайно горд, но именно по чрезмерной гордости чужд авторского тщеславия. Мне противно даже слушать, когда говорят о чем-нибудь, написанном мною,- с похвалою ли говорят, или с порицанием, или тоном безразличным, все равно,- я немедленно поворачиваю разговор на другой предмет. При такой чрезвычайной гордости, натурально, что я не могу читать и для того, чтобы спрашивать советов или замечаний у кого бы то ни было. Это было бы унизительно для меня. Я имею гордость думать, что как писатель не нуждаюсь ни в чьих мнениях и советах, и сам лучше всех знаю достоинства или недостатки того, что пишу. Я никогда ни у кого не спрашивал мнения или совета ни о чем, что писал или пишу.
То, что г. Костомаров мог ввести в свое показание такое неимоверное обстоятельство, будто бы я читал что бы то ни было написанное мною, объясняется только тем, что он не был никогда близок ко мне и потому не знает моих обычаев.
Прибавлю: по словам самого г. Костомарова, я видел тогда его в первый раз. Правдоподобно ли, чтоб я стал выдавать себя за государственного преступника, чтоб отдал свою голову во власть человека, которого видел в первый раз? Я дорожу своею головою больше, чем предполагал г. Костомаров, делая такое показание.
5. Пояснения на показание г. Костомарова о посещениях, сделанных ему мною в бытность мою в Москве весною 1861 года, и о записке, будто бы оставленной мною ему в это время
Г. Костомаров говорит, что в один из дней, которые провел я в Москве весною 1861 года, когда он возвратился домой, ему отдали записку со словами, что она оставлена ему мною, не заставшим его дома. В дополнение к этому найдено, что г. Яковлев показывает, будто бы я, не заставши дома г. Костомарова, написал ему (г. Костомарову) записку, и, как кажется г. Яковлеву, написал ее на лоскуте бумаги, уже исписанном с другой стороны. О способности или неспособности г. Яковлева быть свидетелем я буду говорить ниже по поводу его показания о моем посещении г. Костомарова в августе 1861 года. Здесь же я разбираю не качества показывающих лиц, а только существо самого дела.
Мне показывали записку на лоскуте бумаги, другая сторона которого исписана чем-то. Я сделал на ней надпись, что не признаю почерка этой записки своим, что он ровнее и красивее моего.
В пояснение этого, обращу внимание на две из тех особенностей, которыми ровные и красивые почерки отличаются от неровных и некрасивых. Строка состоит из трех частей: 1, росчерки, выдающиеся вверх; 2, росчерки, выдающиеся вниз; 3, средняя основная полоса строки. Пример-в этом слове "пример" буквы р имеют росчерки вниз, буква е - росчерк вверх, буквы и, м не должны выдаваться ни вверх, ни вниз из основной средней полосы строки. В ровном почерке линии, проведенные по верхним и нижним оконечностям букв и частей букв, не выходящих из основной средней полосы, должны быть прямые параллельные линии; в неровном - они ломаные линии, то сходящиеся, то расходящиеся. Пример: слово - наша, тут все части всех букв должны оставаться в основной средней полосе строки; в ровном почерке верхние и нижние части этого слова представляются в таких линиях, в неровном в таких.
Прямые части букв, занимающие эту среднюю основную полосу строки, в ровном почерке все имеют одинаковое наклонение к горизонтальной оси строки, а согнутые части - части эллипсисов, имеющих один размер, т. е. одинаковую степень собственной искривленности, или целые ровные эллипсисы; эти части эллипсисов и эллипсисы все имеют центр на одной прямой и горизонтальной линии, то есть одинаковое наклонение к оси строки. В неровном почерке ни одна из этих одинаковостей не соблюдается. Пример: теплота. Здесь в ровном почерке первые линии букв т и п одинаковы и одинаково наклонены; последние линии букв т, п, л, т, а также, большая округлость буквы е, буква о и первая половина буквы а - также. В неровном почерке этого не будет. Словом, ровный почерк в этом отношении представляется линиями... а неровный линиями...
Прошу сравнить мой почерк с почерком записки, напрасно мне приписываемой, в этих двух отношениях.
Мой почерк гораздо хуже почерка записки в обоих этих отношениях. Можно нарочно написать худшим, но нельзя нарочно написать лучшим почерком, чем каким способен писать. В ломаном почерке не могут уменьшиться недостатки подлинного почерка.
Если же, чтобы уменьшить эти недостатки подлинного почерка для замаскирования руки в ломаном почерке будут употреблены особенные средства: проведение линеек, очень медленное черчение (вырисовывание) букв вместо обыкновенного довольно быстрого и свободного движения руки, то эти искусственные средства оставляют очень яркие следы на написанном. В комиссии я слышал замечание: "вы могли вырисовывать буквы". Поэтому укажу средство распознать вырисованные буквы от писанных свободным движением. Это средство - сильная лупа или микроскоп, увеличивающий в 10 или 20 раз. Вырисованные буквы явятся с резкими обрывами по толстоте линий, в буквах естественного почерка- переход толстого в тонкое и тонкого в толстое гораздо постепеннее. Пример. Дана буква а - спрашивается, вырисована она или написана свободно и довольно быстро? В первом случае она под микроскопом явится в таком виде <рис. 1> (части, перечерченные поперечными линиями, представляют собою сплошную массу). Таков будет вид рисованной буквы; вид буквы, написанной свободно, будет <рис. 2>. То есть при вырисовывании букв край черты имеет тенденцию становиться ломаною линиею, между тем как в обыкновенном почерке он имеет тенденцию быть кривою или прямою линиею.
Я не изучал специально правил распознавания почерков; потому привожу лишь отрывочные сведения, какие мне случилось приобресть из чтения иностранных гражданских процессов. В случае недостаточности этих сообщенных мною примеров распознавания почерков прошу правительствующий сенат разрешить мне прибегнуть к тем из даваемых для этого наукою средств, какие могут быть допущены по закону.
Осмелюсь сказать следующее: я бы никак не подумал делать указания на приемы, употребляемые для распознавания почерков, если бы не был и не оставался в недоумении о том, каким образом было возможно приписывать писанную не моим почерком записку мне, имеющему почерк, дикая своеобразность которого режет глаза. Мой почерк так дик, что когда, бывало, в школе товарищи дурачатся по школьническому обыкновению подделываясь под почерки друг друга и учителей, я бесился от решительных неудач написать что-нибудь похожее на обыкновенные почерки.
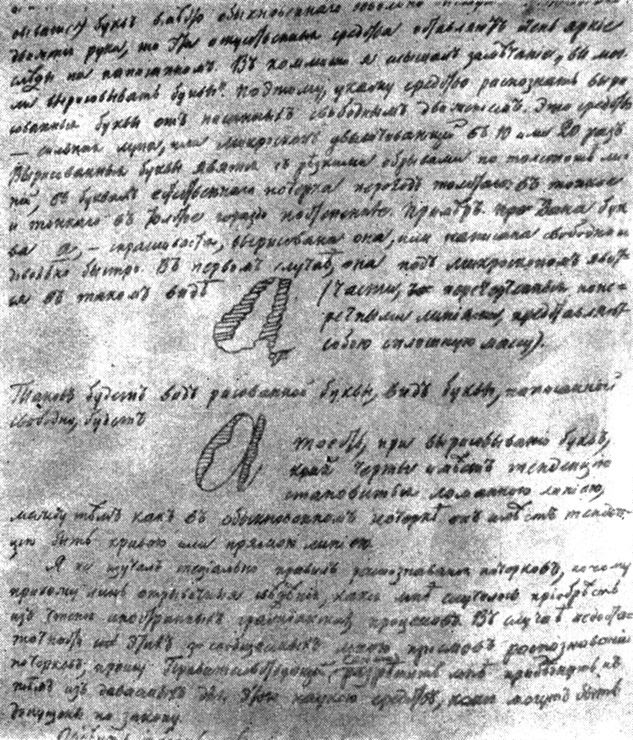
Дополнительное показание Н. Г. Чернышевского от 1 июня 1863 г.
Относительно общеизвестного приема распознавания почерков, состоящего в сличении фигуры отдельных букв, прошу обратить внимание между прочим на следующие буквы и группы букв:
е, с, г выходят в моем почерке очень часто очень похожи друг на друга;
группа ес выходит подобно букве и (иногда бывает трудно разобрать в моем почерке если от или);
форма буквы з в моем почерке;
постоянная уродливость буквы и (первая черта обыкновенно бывает слишком велика перед второю, расстояние между ними вверху очень часто бывает слишком мало сравнительно с нижнею частью);
почерк очень часто перерывается, гораздо чаще, чем в обыкновенных почерках; эти обрывы бывают, между прочим, на буквах и, л, м, после которых не обрывается обыкновенный почерк.
В настоящем показании особенности моей руки являются менее ярко, чем в вещах, написанных стальным пером или карандашом,- притом же я пишу это показание крупно и тщательно. Для сличения удобнее могут служить вещи, писанные карандашом, подобно присваиваемой мне записки; таких вещей много между моими бумагами.
Сделав эти пояснения, я утверждаю, что почерк приписываемой мне записки: 1) не имеет сходства с моим почерком и относится к почеркам совершенно другого характера.
2) что он не есть ни ломаный почерк, ни вырисованный почерк, т. е., что неизвестное лицо, писавшее эту записку, писало ее свободным и быстрым движением руки;
3) что я, как бы ни старался, не мог бы написать так ровно. Кончив эти пояснения о почерке записки, перехожу к другим сторонам вопроса о ней.
Писать и оставлять записку, которая, если бы была действительно моя, служила бы прямою уликою,- это такая глупость, которая решительно не согласна ни с моею известностью, как человека неглупого, ни с моим мнительным характером. Если б я был такой преступник, каким выставлен в показаниях г. Костомарова, и с тем вместе такой опрометчивый глупец, каким следовало бы назвать меня, если б я написал эту записку, то, конечно, против меня были бы сотни улик более солидных, чем эта записка и вообще те обвинения, которые я опровергаю теперь.
Я был в Москве весною 1861 года и заходил тогда к г. Костомарову- то и другое обстоятельство я обращаю в доказательство тому, что я не находился ни в каких преступных сношениях с ним и не предполагал, чтобы он был замешан в каком-нибудь деле тайного печатания. Недели за две перед моею поездкою было отправлено в Москву лицо, служившее по политической полиции, отправлено с поручением разыскать тайное литографированье и печатанье, производившееся тогда в Москве. Я знал это по слуху, который был тогда известен всему Петербургу, и по такому же слуху я знал, что это лицо еще остается в Москве в то время, когда я поехал туда. Мне, как и всему литературному кругу, было известно, что политическая полиция давно имеет надзор за мною. Сверх того, я должен был думать, что само дело, по которому ехал я в Москву, обратит на себя внимание политической полиции (ниже я объясню это дело), и что поэтому надзор за мною в Москве будет особенно бдителен. Если бы я действительно был прикосновен к делу тогдашнего московского тайного печатания, то у меня, по всей вероятности, достало бы осторожности, чтобы не ездить в Москву в такое опасное (в случае моей прикосновенности) время. Ехать для предупреждения моих соучастников (в случае моей прикосновенности) было уже поздно; если б у меня была эта мысль, я поехал бы двумя неделями раньше. Ехать в то время, когда поехал я, значило бы (в случае моей прикосновенности) уже только понапрасну лезть в петлю. И, без всякого сомнения, у меня достало бы благоразумия не бывать в доме г. Костомарова, если б я предполагал, что он занимается тайным печатанием, которое разыскивается политическою полициею, имеющею надзор за мною. Если б я был его соучастником или знал о его участии в тайном печатании, то я, конечно, сообразил бы, что своим посещением выдаю его и себя.
То, что я посещал т. Костомарова в бытность мою в Москве весною 1861 года, приобретает характер нравственной возможности только при принятии за истину того, что я не был с ним в тайных сношениях и не знал о его участии в тайном печатании.
Прибавлю: когда я познакомился с г. Костомаровым и стал оказывать участие к нему, то оказалось, что некоторые из моих знакомых знают его ближе, чем г. Михайлов. От них я услышал, что он человек, во-первых, не умеющий молчать; во-вторых, расположенный выдавать свои мечты за факты. Когда я был у него в Москве в первый раз, я уж имел эти сведения о нем.' Конечно, их было бы достаточно для меня, чтобы прекратить всякие сношения с ним, если б эти сношения имели сколько-нибудь тайный или рискованный характер. Но так как я имел с -ним дело только как с молодым начинающим литератором, то для меня было все равно, скромен он или нескромен, прикрашивает или не прикрашивает факты,- при совершенной невинности и не секретности моих отношений к нему мне нечего было опасаться ни от нескромности, ни от наклонности прикрашивать факты.
Дело, по которому я ездил тогда в Москву, было следующее. Несколько петербургских литераторов, собравшихся в квартире г. Вернадского, выслушали и с некоторыми изменениями одобрили основные черты новых правил цензуры, написанные г. Вернадским, и положили подать об этом просьбу г. министру народного просвещения. Надобно было кому-нибудь отправиться в Москву для предложения участия в этом деле московским литераторам. Г. Вернадский вызвался ехать, но не раньше, как недели через две или три. А в тот самый день, как было это собрание, "Современник" получил сильную цензурную неприятность, которая усилила мое нетерпение хлопотать о цензурных улучшениях, и потому я сказал: "что откладывать в долгий ящик; если присутствующие согласны поручить это мне, я поеду завтра или послезавтра". Они согласились, и я действительно поехал через полуторы сутки. По приезде в Москву тотчас же поехал к г. Каткову, важнейшему тогда из московских журналистов; он собрал у себя других; я был на этом собрании, проект г. Вернадского был принят с некоторыми изменениями, г. Каткову было поручено написать записку и подробные правила; я почел свое поручение исполненным и уехал в Петербург.
6. Пояснения на показание г. Костомарова, будто я диктовал ему воззвание к раскольникам
Г. Костомаров утверждает, будто бы я диктовал ему в Знаменской гостинице воззвание к раскольникам. Он не вздумал бы говорить о Знаменской гостинице, если б был ближе знаком со мною. Нет на свете человека, менее меня расположенного к посещению гостиниц, ресторанов и всего тому подобного. Г. Костомаров напрасно остановился на слухе, будто бы я кутила. Нет, я не охотник кутить.
Когда я сказал это на первом из мартовских допросов, то у г. Костомарова, явившегося при втором мартовском допросе на очную ставку, было готово объяснение такому странному обстоятельству, как мой обед с ним в Знаменской гостинице. Он сказал: "Вы повели меня в гостиницу потому, что ваш (т. е. мой, Чернышевского) кабинет был неудобен для диктования". Но эти слова г. Костомарова показывают только, что он забыл положение моего кабинета в тогдашней моей квартире (на Васильевском острове, во 2 линии, в доме Громова). Нельзя было бы желать комнаты, более удобной для тайной диктовки. Эта комната отделена от других коридором.
Но эта комната имела менее хорошие обои, менее красивую печь, менее красивые полы, чем другие комнаты той квартиры; вероятно, г. Костомаров слышал какие-нибудь порицания моей комнаты по сравнению с другими в этих отношениях,- перезабыл, спутал,- подумал, что она неудобна для нужной ему тайной диктовки, и поэтому выстроил своею мечтою Знаменскую гостиницу. Напрасно. Очень удобно было бы поместить тайную диктовку в мой кабинет. Тогда одним неправдоподобием было бы меньше.
Но если бы мой кабинет и действительно был неудобен для тайной диктовки,- то ведь я очень хорошо знаю, что гостиницы еще гораздо неудобнее для таких занятий. Уж лучше было бы нам с г. Костомаровым отправиться для диктовки к г. Михайлову, если мои отношения с г. Михайловым и с г. Костомаровым были таковы, как говорит г. Костомаров. Или и у г. Михайлова не было удобной для того комнаты?
7. Пояснения о способности или неспособности г. Яковлева быть свидетелем
На допросах в марте и на первой очной ставке моей с г. Костомаровым еще не представлялось ничего преступного в посещении, которое сделал я г. Костомарову в августе 1861. Но на апрельском допросе был выведен на очную ставку со мною г. Яковлев и сказал, что слышал, как я просил в это время г. Костомарова печатать воззвание к барским крестьянам. Г. Костомаров только уже подтвердил это.
В начале очной ставки г. Яковлева спросили, узнает ли он меня; но меня не спросили, имею ли я причины отвода против г...Яковлева. Но когда по окончании очной ставки он вышел, я сказал: "Предостерегаю комиссию против этого свидетеля". Если остается хотя малейшая тень подозрения на мне от его показания, я прошу у правительствующего сената разрешения пояснить эти мои слова.
Теперь скажу только следующее. Я не знаю, в качестве ли свидетеля, или только оговаривающего соучастника является г. Яковлев. Если в качестве свидетеля, то (прося у правительствующего сената снисхождения к моей ошибке, когда такое мнение мое ошибочно) я полагаю, что он не имеет способности быть свидетелем. Если он сделал свои показания в недавнее время, то он был укрывателем и, следовательно, есть лицо прикосновенное к делу. Если же он не был укрывателем, т. е. немедленно сообщил правительству о преступном разговоре, который будто бы слышал в августе 1861, то, так как я не был тогда ни арестован, ни призван к ответу, из этого следует, что его показания против меня были во время процесса г. Костомарова найдены неосновательными, и что я не имею нужды разбирать их. Но от этой формальной стороны обращаюсь к существу дела.
8. Пояснения по показаниям гг. Костомарова и Яковлева о посещении мною г. Костомарова в августе 1861 года
Показания представляют меня гуляющим по саду. Я не гуляю и не прохаживаюсь. Исключение бывает лишь, когда я бываю принужден к тому желанием лица, пред которым обязан держать себя слишком почтительно по его официальному званию. Я терпеть не могу ходить по комнате или по саду. Это было очень ясно видно во время моего ареста. Сначала я думал, что тяжесть в голове, которую я чувствовал в первый месяц ареста, происходит от геморроя, и принуждал себя ходить по комнате для моциона. Но как только я заметил, что это боль не геморроидальная, а ревматическая, происходящая от того, что я лежал головою к окну, я стал ложиться головою в противоположную сторону от окна, и с того же дня перестал ходить, абсолютно перестал ходить по комнате. Когда меня приглашали выходить в сад, я сначала выходил, воображая, что в это время обыскивают комнаты и что я возбудил бы подозрения отказом удаляться из нее; но месяца через три я убедился что обысков не делают, подозревать не станут,- и как только убедился в этом, стал отказываться выходить в сад. Так я абсолютно не сделал ни одного шага для прогулки по комнате до сих пор с начала сентября,- не выходил в сад с октября. Исключением были несколько дней в конце апреля, когда w принуждал себя к тому и другому по гигиенической надобности; она прошла - и вот уж больше месяца я опять бываю исключительно только в двух положениях: сижу и лежу.
Неужели я с осени предвидел, что это понадобится для возражения г. Яковлеву? Но не предвидел же я этого за двадцать лет назад. А я по крайней мере 20 лет абсолютно не гуляю.. Прогуливаться - мне скучно и противно. Это известно моим знакомым. С кем из них когда я ходил по комнате или по саду?- Ни с кем, никогда.
Я все время, когда был у Костомарова, в августе 1861, просидел с ним в беседке.
Г. Яковлев говорил на очной ставке: "Г. Костомаров не повел вас (меня, Чернышевского) в беседку потому, что там был я" (т. е. г. Яковлев). Кто знает меня, знает, что если бы г. Костомаров сказал: "в беседку идти нельзя",- то я тотчас бы уселся на скамью,- если бы скамьи не было, я пошел бы с г. Костомаровым сидеть в комнатах; если б нельзя было сидеть в комнатах, я все время простоял бы, прислонившись к стене или дереву, или лег бы на землю, но гулять не стал никак и ни за что.
Г. Яковлев ввел в свое показание (а г. Костомаров подтвердил) мое невозможное гулянье по саду только потому, что оба они не знали моих особенностей.
Итак, г. Яковлев, говоря, что я и г. Костомаров ,не входили в беседку потому, что он был в ней, этим самым признает, что я и он, г. Яковлев, не могли быть вместе в беседке. Я утверждаю, что в беседке был я.
Чем доказать, что я был в беседке? Я описал г. Костомарову (на очной ставке) расположение мебели в ней. Положим, я мог говорить наудачу и отгадать. (Хотя г. Костомаров после этого моего описания сказал: "Быть может, мы с вами и входили в беседку, но все-таки гуляли и по саду".) Но вот чего уж никак нельзя было отгадать, не видевши: на столе в беседке стоял мой портрет, в величину обыкновенного, фотографического, но не фотографический, а рисованный. "Как это вы нарисовали?"- спросил я.- На память,- отвечал он. Кажется, ясно теперь, что в беседке был я.
Следовательно, неосновательны слова г. Яковлева, будто бы он, сидя в беседке, слышал отрывки разговора между мной и г. Костомаровым, гулявшими по саду. И, следовательно, напрасно подтверждал эти слова г. Костомаров.
Но в беседке или саду, сидя или прогуливаясь, будучи или не будучи слышим г. Яковлевым, говорил ли я в августе 1861 г чтобы г. Костомаров напечатал "Воззвание к барским крестьянам"?
Решить это поможет решение вопроса: когда было написано "Воззвание к барским крестьянам"? До высочайшего манифеста? Или по его обнародовании, но до Безднинского дела* (о котором, конечно, не мог бы не упомянуть автор)? Или после того, но до получения известий, что крестьяне повсюду неохотно принимают уставные грамоты (до этого и после этого должно быть совершенно разное содержание)? Вопрос о времени, когда написано воззвание, вероятно, бесспорно решается его содержанием.
* (Кровавая расправа правительственных войск над восставшими крестьянами с. Бездны Спасского уезда Казанской губернии произошла 12 апреля 1861 г.)
По словам г. Костомарова, оно было написано до весны. В словах г. Костомарова столько неточностей, что ни на одно из них невозможно опереться. Но если "Воззвание" действительно было написано до весны, оно уже никуда не годилось в августе. Когда я сказал это г. Костомарову (на очной ставке), он даже не понял моих слов (значит, мы с ним не говорили о воззвании ни в августе, ни когда прежде, ,иначе он понял бы меня на очной ставке). "Конечно, вы говорили тогда, что весною оно имело бы больше действия",- сказал он. Не в том дело. Наплыв новых фактов с весны до августа был так велик, что все содержание писанного до весны должно было никуда не годиться. Видя, что он не понимает этого, я сказал: "Мы с вами литераторы, мы должны понимать, что писанное в феврале никуда не гадится по своему содержанию в августе".- "Но набор был цел",- отвечал он мне на это.- Это требует справки с делом г. Костомарова. Если я был его соучастником, то я знал, что делается у него. Был ли цел набор, был ли цел станок у него 17 или 18 августа, когда я проезжал через Москву?- Если нет, то он, когда бы я был его соучастником, мог бы рассказывать мне об уничтожении станка и набора, если это не было сообщено мне прежде. Но уже никак в этом случае не оставалось места моей мнимой просьбе о печатании.
Если же станок и набор были целы, является другое соображение. Когда я выехал из Петербурга, весь Петербург уже знал, что в Москве арестованы некоторые лица, обвиняемые в тайном печатании. И, без сомнения, я стал бы просить г. Костомарова не о печатании, а об уничтожении всяких следов печатания. А вернее всего, что не показал бы носа к г. Костомарову.
Я мог быть у него только потому, что знал себя и считал его нимало не прикосновенным к делу тайного печатания.
Но все-таки, зачем я был у г. Костомарова в августе? Когда я прожил весною несколько дней в Москве, я от нечего делать навещал и знакомых, и полузнакомых, и почти незнакомых (например, г. Маслов, управляющий московскою удельною конторою, скорее почти незнакомый, чем полузнакомый мой, особенно тогда; после мы встречались раза три в обществе, когда он приезжал в Петербург). Но в августе я приехал в Москву с петербургским поездом, выехал из нее в тот же день с владимирским,- не показывает ли короткости, что я поскакал на свидание с г. Костомаровым? Дело в том, что я поехал вовсе не к нему. Переехав с петербургской станции на владимирскую и взяв билет, я написал письмо к жене. Мне сказали: с этой станции оно не попадет на нынешний петербургский поезд,- отправляйтесь в отделение почтамта. Я повез письмо. Отдав письмо, я подумал: если уж попал в город, то заеду к Плещееву. Поехал, но вспомнил, что его нет в Москве, сказал извозчику "стой" и начал думать, куда бы поехать. При моем отъезде из Петербурга Добролюбов дал мне адрес г. Головачева, сказав, что, быть может, г. Головачев годится в сотрудники "Современника". Я поехал по этому адресу: собственный дом, на каком-то бульваре. "Дома г. Головачев?" - "Нет",- отвечала служанка. Выходя из калитки, я взглянул - перед глазами Екатерининский институт. "А, да это рядом с Костомаровым,- зайду к нему покурить",- и зашел. Но зашел только покурить. Г. Костомаров, на очной ставке, сказав сначала, что я пробыл у него долго, согласился потом, что я торопился ехать, говоря: "опоздаю на поезд",- точно, я говорил это, ведь неловко же сказать: мне скучно сидеть, с вами, я зашел только выкурить папиросу, потому что боюсь курить на улицах. На самом деле я не мог опасаться опоздать,- я приехал на станцию очень задолго до первого звонка - вероятно, слишком за час,- это можно проверить. При мне происходила сцена между военным и мужчиною высокого роста, сухощавым, в русском костюме,- это было очень задолго до первого звонка. Полиция должна знать это. Итак, я предпочел курение у г. Костомарова некурению, одинокое курение на станции курению в разговоре с г. Костомаровым,- вот пределы, показывающие степень нашей интимности.
Повторяю: быть внимательным и оказывать услуги - выгода журналиста и качество моего характера; но от этого еще очень далеко не только до тайных отношений, но и до хорошего знакомства; не только до хорошего знакомства, но и до того, чтоб не предпочитать сиденье на станции сиденью с ним.
9. Общее заключение пояснений по всем обвинениям, выводимым из показаний гг. Костомарова и Яковлева
Если остается на мне хотя малейшая тень подозрения по этим обвинениям, то я прошу правительствующий сенат разрешить мне употребление средств для получения более полных опровержений. Средствами к тому я нахожу: то, чтобы мне дано было пересмотреть дела г. Михайлова и г. Костомарова,- в них должно быть много вещей, разрушающих настоящие показания гг. Костомарова и Яковлева; то, чтобы мне дано было рассмотреть "Воззвание к барским крестьянам",- так как оно не писано мною, то я ожидаю найти в самом его содержании приметы того, что оно не писано мною; позволить мне внимательно рассмотреть записку, отвергаемую мною. Упоминая особенные средства к раскрытию истины, я, конечно, не отважусь считать нужным для меня перечислять общие средства к тому, полезные для всякого подсудимого: мои судьи сами, лучше, нежели мог бы сделать я, откроют все те способы к защите, какие могут быть доставлены мне из этих общих средств.
10. Пояснения по некоторым из вопросов, порождаемых предыдущим изложением или изустною частью допросов, деланных мне во время следствия
Я ссылаюсь на мои письма к его величеству и к его светлости г. с.-пбургскому генерал-губернатору в пополнение моего настоящего показания. Но в них есть одно утверждение, которого я не могу повторить теперь. Я в них говорю, что против меня нет обвинений,- теперь против меня выставлено много обвинений. Как мог я говорить тогда, что против меня нет и не может быть обвинений, и что я должен сказать теперь вместо этого?
Чтобы отвечать на это, прежде всего нужно знать: когда явилось в следствии, производившемся надо мною, каждое из показаний или обстоятельств, служащих материалами для обвинений. При допросе 30 октября мне не было сказано, что есть письмо, говорящее о согласии Герцена издавать со мною журнал,- находилось ли тогда это письмо в руках комиссии? Мне не было сказано о картонных лоскутках,- имела ли тогда комиссия в виду эти лоскутки и считала ли их достойными того, чтобы спрашивать о них, не шифр ли они? - и так далее, по каждому обвинению. Как из положительного, так и из отрицательного ответа на каждый из этих вопросов является новый вопрос. Из положительного ответа является вопрос: если это обвинение существовало, почему не спрашивали о нем? Из отрицательного ответа является вопрос: почему ж этого обвинения не было тогда в руках комиссии, или почему она прежде не находила, а потом нашла его достойным быть предметом допроса?
Вот факты: я был арестован 7 июля. Первый допрос мне был сделан 30 октября. Но это допрос - говорю не в порицательном, а в юридическом смысле слова, не заключающем в себе ничего предосудительного - чисто только формальный,- он совершенно удовлетворительно исполнял юридическую форму, необходимость и почтенность которой я вполне понимаю и ценю: отобрать у подсудимого показания о имени, звании, летах и проч.; я знаю, что эта форма служит для ограждения подсудимого, и уже одна сама иногда открывает его невинность. Но существа дела этот допрос не представлял. Существо дела явилось только на первом мартовском допросе, более чем через восемь месяцев после моего ареста.
Эти факты многознаменательны; я еще не имею права говорить, в какую сторону они многознаменательны; это право даст мне или отнимет у меня приговор моих судей; и о они в том и другом случае многознаменательны.
Когда я был призван в комиссию 1 или 2 ноября (не для допроса, а для формальной замены некоторых моих выражений другими, замены, почтенность которой я вполне понимаю), один из членов комиссии,- я теперь знаю его имя, он сказал мне его 28 апреля, это г. Огарев,- я сказал ему в глаза, что считаю человеком честными хорошим, и, конечно, не скажу за глаза меньше,- скорее я говорю в подобных случаях больше за глаза, чем в глаза,- но не потому я составил себе очень выгодное мнение о его честности, чтоб он защищал меня на допросах,- напротив, он живее всех налегал на то, чтоб я признал записку за мою, а лоскутки - за шифр, но я могу понимать и всегда ценю, когда человек честно высказывает свое мнение,- все равно, ошибочно ли или справедливо само это мнение на мой взгляд, в мою ли пользу оно, или против меня,- я в том и другом случае одинаково признаю его честность и уважаю за него человека,- итак, г. Огарев 2 ноября сказал мне, что за несколько времени перед моим арестом я более или менее официальным образом спрашивал, могу ли я получить заграничный паспорт. Я прошу правительствующий сенат исследовать истину по этому вопросу. Лицо, манеры и тон голоса г. Огарева всегда внушали и теперь внушают мне полную уверенность, что он никогда не унизится до уловок для получения признания, да это и говорилось вовсе не к тому, чтобы получить от меня показание,- нет, он, конечно, считал основательным сведение, которое высказывал. Такое сведение важно, если основательно, для подкрепления обвинения меня в намерении эмигрировать, если же неосновательно, то как пример того,, что гг. члены Следственной комиссии могли иметь неверные сведения обо мне и принимать их за верные,- то есть с полною добросовестностью ошибаться во вред мне. Где, как, у кого я более или менее официальным образом спрашивал за несколько дней перед моим арестом, могу ли я получить заграничный паспорт? Мне кажется, что это заслуживает исследования; если же не заслуживает, прошу правительствующий сенат извинить то, что я напрасно утруждал его представлением этого моего мнения.
В изустных объяснениях на допросах в следственной комиссии я говорил многое из того, что письменно представляю теперь правительствующему сенату в свою защиту; но многого не говорил. Почему ж я не говорил тогда? Если это не разъяснится самым ходом моего процесса, то я о полнейшею готовностью объясню это правительствующему сенату, точно так же, как и все, что потребует объяснения, по мнению правительствующего сената. Это показание дал 1 июня 1863 года правительствующему сенату отставной титулярный советник Н. Чернышевский.
© Злыгостев Алексей Сергеевич, 2013-2018
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://n-g-chernyshevsky.ru/ "N-G-Chernyshevsky.ru: Николай Гаврилович Чернышевский"
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://n-g-chernyshevsky.ru/ "N-G-Chernyshevsky.ru: Николай Гаврилович Чернышевский"